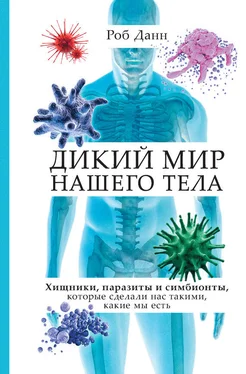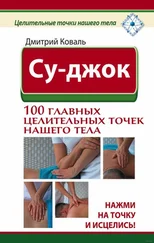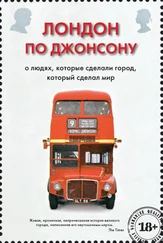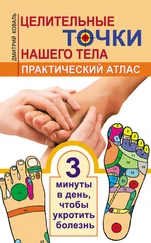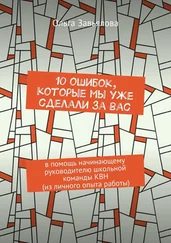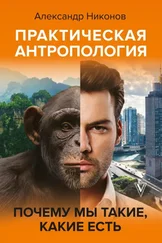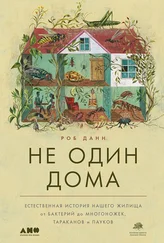Арне Оман (специалист по физиологии мозга, сам страшно боящийся змей, несмотря на то что живет в Швеции, где их давно нет) и его коллеги разработали тест, в котором имитировали эффекты слепозрения. Для того чтобы их воспроизвести, испытуемым демонстрировали изображения лиц. Иногда изображение сопровождали громким отвлекающим звуком, иногда этого не делали. На фоне звукового сопровождения и достаточно короткой демонстрации изображения Оман смог воспроизвести ситуацию, когда несмотря на то, что испытуемый видит изображение, он его не осознает. На прямой вопрос испытуемый обычно отвечал, что не видел никакого лица. Кроме того, выяснилось, что та часть мозга, которая обычно активируется при рассматривании лиц (испытуемым одновременно делали МРТ), при этом не активировалась. Вместо этого отмечали повышение активности в другой части мозга, откуда сигналы передаются непосредственно в миндалину. Эти сигналы никто никогда не регистрировал, и до работ Омана мы не знали об их существовании.
Оман и его коллеги выявили у человека древнюю нейронную цепь, которая сильнее выражена у крыс, чем у людей, но присутствует у всех млекопитающих. Эта цепь отвечает за передачу стимулов страха, агрессии и побуждений. Некоторые зрительные стимулы и целые сцены возбуждают непосредственно эту цепь, заставляя организм реагировать на стимулы, которые не в каждом случае осознаются. Когда Оман показывал испытуемым змею или устрашающее лицо, сигналы по зрительным путям направлялись непосредственно в мозжечковую миндалину и запускали обычную реакцию страха. Это происходило даже в тех случаях, когда сознание не ведало, что испытуемый видит змею. Испытуемые не могли разумно объяснить причину своего страха, так как разум не участвовал в формировании реакции.
Как именно работает эта древняя цепь, пока не вполне ясно, но то, что она существует, заставляя нас отпрыгивать, дрожать, убегать и драться, не вызывает никакого сомнения. Не кажется большой натяжкой предположение о том, что эта древняя нейронная цепь участвует в формировании некоторых наших предпочтений (и страхов) в животном мире, а также в формировании наших представлений о красоте и уродстве, умиротворяющем и устрашающем. У крыс существуют нейроны, связанные с древними проводящими путями, которые помогают определить, насколько близко крыса подошла к тому или иному предмету. Отдельные клетки, называемые клетками местоположения, помогают отметить момент, когда животное пересекает критическую точку на пути к предмету. Насколько правомочно предположение о том, что такие же клетки могут регистрировать и сигналы, возникающие при слежении взглядом за извилистым контуром ползущего в траве смертоносного пресмыкающегося? Будем ли мы правы, вообразив, что эти подсознательные части мозга могут регистрировать и более тонкие нюансы окружающего нас мира, те его аспекты, которые вызывают у нас удовольствие или отвращение, гнев или радость?
Сегодня мы наверняка знаем одно: все мы рождаемся с высоким уровнем настороженности в отношении змей и со способностью после реального испуга доводить эту настороженность до более высокого уровня осознанного страха. В большинстве своем мы появляемся на свет с врожденным предпочтением открытых полевых ландшафтов, а не лесов. Дерево с раскидистыми ветвями, на которое легко вскарабкаться, кажется нам более привлекательным, чем дерево с высоким голым стволом. Эти предпочтения, так же как страх перед змеями, могут видоизменяться в процессе обучения, могут становиться сильнее или слабее на основании жизненного опыта и суждений, но зарождаются они в глубинах подсознания и являются врожденными. Есть и другие универсальные признаки – например, предпочтение в отношении водной поверхности или любовь к блестящим синим поверхностям. То, как все это работает, какие визуальные сцены мы на самом деле предпочитаем, почему мы обучаемся выбирать одно, а не другое, как наш организм реагирует на эти сцены и образы – механизмы этих феноменов чаруют нас, как древние самоцветы, как столпы, на которых, как на вкусовых сосочках, покоится неизведанное царство нашей самости.
Несмотря на то, что все механизмы наших предпочтений в целом остаются загадкой, их следствия вполне ясны и очевидны. Влияя на наш выбор, эти предпочтения сформировали окружающий нас обитаемый мир и отдалили нас от дикой природы, в которой мы возникли и развивались. Это началось в те времена, когда мы превратились из жертв в хищников, когда чувство страха сменилось у нас смешанным чувством страха и агрессии. В этом отношении мы больше похожи на крабов, нежели на моллюсков. Как и у крабов, наше влияние на окружающий мир увеличивалось по мере усовершенствования наших орудий и органов чувств.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу