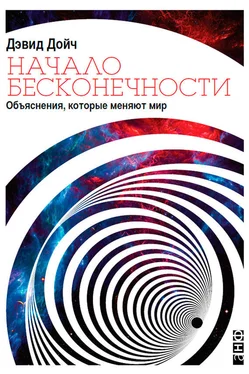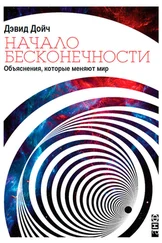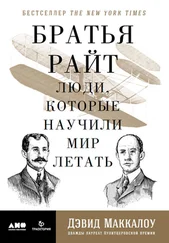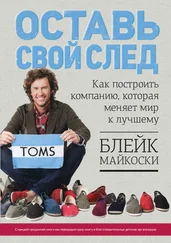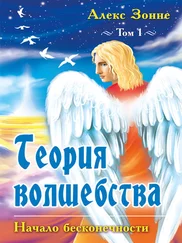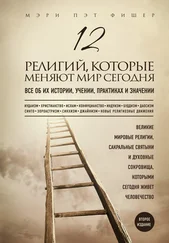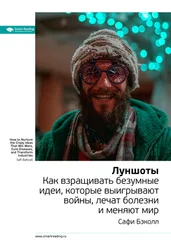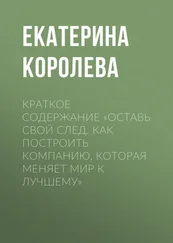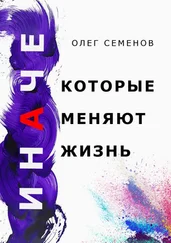Но с чего бы людям, которые благоволят к определенным лидерам и стратегиям, делать их более подверженными замене? Однако позвольте мне вначале спросить: зачем вообще кому-то может понадобиться заменять плохих лидеров и плохие стратегии? Этот вопрос может показаться абсурдным, но, вероятно, он абсурден лишь с точки зрения цивилизации, принимающей прогресс как нечто само собой разумеющееся. Если же мы не ожидаем прогресса, то с чего нам ждать, что новый лидер или новая стратегия, выбранные тем или иным методом, будут чем-то лучше старых? Напротив, тогда мы должны ожидать, что любые перемены в целом приносят столько же вреда, сколько пользы. И тогда принцип предосторожности говорит, что «знакомый черт лучше незнакомого». Получается замкнутый круг: если исходить из того, что объем знаний не будет расти, то принцип предосторожности верен; а допустив, что он верен, мы не сможем себе позволить развитие знаний. Пока общество не станет надеяться, что в будущем его предпочтения изменятся в лучшую сторону сравнительно с нынешними, оно будет стараться как можно лучше защитить текущие стратегии и институты. Поэтому критерию Поппера могут удовлетворять только те общества, в которых ожидается развитие знаний, причем развитие непредсказуемое. А значит, они ожидают, что если знания будут развиваться, то это пойдет на пользу .
Как раз это ожидание я и называю оптимизмом и могу сформулировать его в наиболее общем виде как
Принцип оптимизмаВсе зло вызвано недостатком знаний.
Оптимизм прежде всего – это способ объяснить неудачу, а не пророчить успех. Он утверждает, что на пути прогресса не существует фундаментального барьера, закона природы или сверхъестественной воли. Когда мы пытаемся что-то улучшить, но нам это не удается, это не потому, что злые (или необъяснимо великодушные) боги нам препятствуют или наказывают нас за эту попытку, и не потому, что мы достигли предела возможностей разума по совершенствованию, и не потому, что неудача – это лучшее, что могло случиться, а всегда потому, что наши знания к этому моменту недостаточны. Но оптимизм – это также установка на будущее, потому что почти все неблагоприятные исходы и почти все благоприятные у нас еще впереди.
Оптимизм, как я говорил в главе 3, следует из объяснимости физического мира. Если законы физики что-то разрешают, то единственное, что может помешать технологическому осуществлению этого, – незнание, как это сделать. Оптимизм также предполагает, что ни один из запретов , накладываемых законами физики, не является непременным злом . Так, например, отсутствие невозможного знания о том, как делать пророчества, не является для прогресса непреодолимым препятствием. Как и неразрешимые математические задачи, о чем шла речь в главе 8.
Это означает, что в конечном счете неодолимых зол нет, а в краткосрочной перспективе неодолимо только то зло, которое парохиально. Не может существовать болезни, от которой невозможно найти лекарство, разве что определенные типы повреждений мозга, те, при которых рассеивается знание, составляющее личность пациента. Ведь больной человек – это физический объект, и преобразование этого объекта в того же человека, но в добром здравии, не запрещается ни одним из законов физики. А значит, есть способ осуществить такое преобразование, другими словами, лечение. Нужно только знать как. Если пока мы не знаем, как уничтожить конкретное зло, или знаем, как это сделать теоретически, но не обладаем достаточным временем или ресурсами (то есть благосостоянием), тогда, даже при всем при этом, всегда будет справедливо, что либо законы физики не позволяют устранить его за отведенное время с помощью доступных ресурсов, либо существует способ сделать за такое время и с использованием данных ресурсов.
То же самое с не меньшей тривиальностью должно выполняться и для зла смерти – гибели человека от болезней или от старости. Эта проблема находит огромный резонанс в каждой культуре: в литературе, ценностях, целях, великих и малых. Кроме этого, мало что может сравниться с ней в укорененности представлений о ее неразрешимости (за исключением тех, кто верит в сверхъестественное): смерть считают олицетворением непреодолимого препятствия. Но для такой репутации нет рациональных оснований. Парохиально до нелепости придавать какое-то глубокое значение этой конкретной неудаче, одной среди стольких других проблем, с которыми сталкивается биосфера, обеспечивая существование человека, или медицина на протяжении веков в борьбе со старением. Проблема старения относится к тому же общему типу, что и болезни. И хотя по современным стандартам это задача сложная, ее сложность конечна и ограничивается относительно узкой сферой, основные принципы которой уже достаточно хорошо поняты. При этом объем знаний в соответствующих областях растет экспоненциально.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу