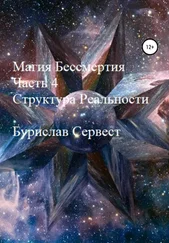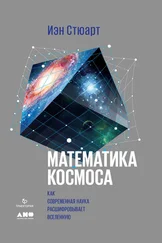Различные виды генов, которым для репликации необходимо сотрудничество друг с другом, часто сосуществуют в длинных цепочках ДНК, ДНК организма. Организм – это нечто (например, животное, растение или микроб), о чем на обыденном языке мы думаем как о живом. Но из сказанного мной следует, что «живой», применительно к частям организма, отличным от ДНК, – это, в лучшем случае, титул учтивости [32], не более того. Организм не является репликатором: он – часть среды репликаторов, обычно самая важная часть после всех остальных генов. Оставшаяся часть среды – это тип местообитания, которое может занимать организм (например, вершина горы или дно океана), и конкретный образ жизни в нем (например, охотник или фильтратор), который дает организму возможность прожить там достаточно долго, чтобы произошла репликация его генов.
На повседневном языке мы говорим о «размножении» организмов; это и в самом деле считалось одним из «признаков живых объектов». Другими словами, мы думаем об организмах как о репликаторах. Но это ошибочно! Организмы во время размножения не копируются; и еще меньше они побуждают свое собственное копирование. Они создаются заново по чертежам, заложенным в ДНК родительских организмов. Например, если случайно изменится форма носа медведя, это может изменить весь образ жизни этого конкретного медведя, и его шансы на выживание для «воспроизводства себя» могут как увеличиться, так и уменьшиться. Но у медведя с новой формой носа нет шансов быть скопированным. Если у него будет потомство, то носы его потомков будут обычными. Но стоит только изменить соответствующий ген (если делать это сразу же после зачатия медведя, необходимо изменить только одну молекулу), и у всех его потомков будут не только носы новой формы, но и копии нового гена. Это показывает, что форма каждого носа зависит от этого гена, а не от формы какого-либо предыдущего носа. Таким образом, форма носа медведя не вносит причинного вклада в форму носа его потомка. Но форма генов медведя дает вклад и в свое собственное копирование, и в форму носа медведя, а также в форму носа его потомков.
Таким образом, организм – это ближайшая среда, копирующая реальные репликаторы, то есть гены этого организма. Традиционно нос медведя и его берлогу классифицировали бы как живой и неживой объекты соответственно. Однако в основе этого разделения нет какого бы то ни было принципиального различия. Роль носа медведя не имеет фундаментальных отличий от роли его берлоги. Ни то ни другое репликатором не является, хотя постоянно создаются новые примеры и того и другого. И нос, и берлога – это всего лишь части среды, которой манипулируют гены медведя в процессе своей репликации.
Это основанное на генах понимание жизни, – в рамках которого организмы рассматриваются по отношению к генам как часть окружающей среды, – неявно содержалось в основаниях биологии со времен Дарвина, но его не замечали почти до 1960-х годов и не до конца понимали до появления трудов Ричарда Докинза «Эгоистичный ген» (1976) и «Расширенный фенотип» (1982) [33].
Теперь я вернусь к вопросу о том, является ли жизнь фундаментальным явлением природы. Я уже предостерег от редукционистского допущения, будто эмерджентные явления, подобные жизни, с необходимостью менее фундаментальны, чем микроскопические физические явления. Тем не менее кажется, что все, что я только что говорил о том, что такое жизнь, указывает на то, что это всего лишь побочный эффект в конце длинной цепочки побочных эффектов. Дело не только в том, что предсказания биологии, в принципе, сводятся к предсказаниям физики, а в том, что то же самое происходит и с объяснениями. Как я уже сказал, великие объяснительные теории – теория Дарвина (в современных версиях, излагаемых, например, Докинзом) и современная биохимия – являются редуктивными . Живые молекулы – гены – это всего лишь молекулы, которые подчиняются тем же самым законам физики и химии, что и неживые. Они не содержат никакой особой субстанции и не имеют особых физических свойств. Они просто в определенных средах оказываются репликаторами. Свойство репликации в высшей степени контекстуально, то есть оно зависит от тонких особенностей окружающей среды репликатора: объект может быть репликатором в одной среде и не быть им в другой. Свойство адаптации к нише также зависит не от какого-то простого физического атрибута, присущего репликатору в данное время, а от следствий, которые оно может вызвать в будущем и в гипотетических условиях (т. е. в вариантах этой среды). Контекстуальные и гипотетические свойства по сути своей производны, поэтому сложно понять, каким образом явление, характеризуемое только такими свойствами, может быть фундаментальным явлением природы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
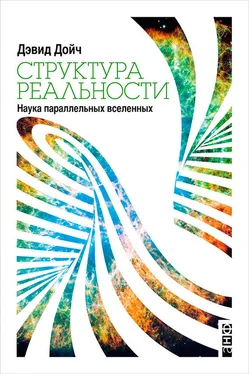

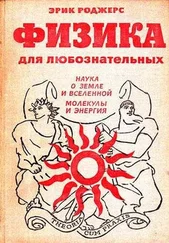
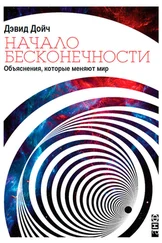


![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-thumb.webp)