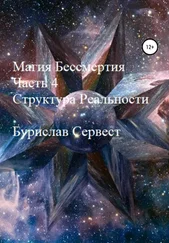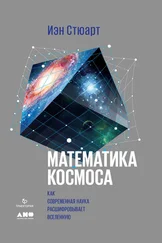Этот куновский взгляд на научный процесс кажется естественным многим людям. На первый взгляд, он объясняет повторяющиеся резкие перемены, которые наука навязывает современному мышлению на языке повседневных человеческих качеств и импульсов, знакомых всем нам: это и укоренившиеся предрассудки и предубеждения, и нежелание видеть доказательства своих ошибок, и подавление несогласных из эгоистических интересов, и желание спокойной жизни и т. д. И в оппозиции всему этому – бунтарский дух молодости, поиски новизны, радость нарушения запретов и борьба за власть. В идеях Куна привлекает еще одно: он ставит ученых на место. Они больше не могут объявлять себя благородными искателями истины, использующими рациональные методы предположения, критики и экспериментальной проверки для решения задач и создания все более удачных объяснений мира. Кун открывает, что ученые – всего лишь конкурирующие группы, которые играют в бесконечные игры за право контроля территории.
Сама идея парадигмы не вызывает сомнений. Мы действительно наблюдаем и понимаем мир с помощью набора теорий, который и составляет парадигму. Но Кун ошибается, считая, что приверженность парадигме мешает человеку видеть достоинства другой парадигмы, или препятствует переходу к новой парадигме, или на самом деле мешает человеку понять две парадигмы одновременно. (Обсуждение более широких последствий этой ошибки см. в книге К. Поппера «Миф концептуального каркаса».) Конечно, всегда существует опасность того, что мы можем недооценить или полностью упустить объяснительную способность новой фундаментальной теории, оценивая ее на концептуальной основе старой теории. Но это всего лишь опасность, и ее можно избежать при достаточной внимательности и интеллектуальной честности.
Верно также и то, что люди, включая ученых, и особенно те, кто занимает руководящие должности, действительно имеют склонность придерживаться общепринятого образа действий и могут с подозрением отнестись к новым идеям, поскольку весьма удобно чувствуют себя со старыми. Никто не может заявить, что все ученые в равной степени скрупулезно рациональны в своих суждениях об идеях. Неоправданная лояльность по отношению к парадигмам действительно зачастую является причиной противоречий в науке, как и везде. Но если рассмотреть теорию Куна как описание или анализ научного процесса, мы увидим ее роковую ошибку. Эта теория объясняет переход от одной парадигмы к другой в терминах социологии или психологии, вместо того чтобы говорить главным образом об объективных достоинствах соперничающих объяснений. Но если человек не понимает науку как поиск объяснений, тот факт, что она находит все новые и новые объяснения, каждое из которых объективно лучше предыдущего, останется необъяснимым.
Поэтому Кун вынужден решительно отрицать, что имело место объективное улучшение при последовательной смене научных объяснений, а также и то, что это усовершенствование хотя бы в принципе возможно: «…Есть [шаг], который хотели бы сделать многие философы науки и который я делать отказываюсь. Они хотят сравнивать теории как представления природы, как утверждения о том, “что действительно существует”. Хотя ни одна теория из исторической пары не является истинной, они тем не менее ищут смысл, в котором более поздняя теория является лучшим приближением к истине. Я считаю, что ничего подобного найти невозможно» [53]. Таким образом, рост объективного научного знания невозможно объяснить с помощью картины Куна. Бесполезно пытаться утверждать, что сменяющие друг друга объяснения лучше только в рамках их собственной парадигмы. Существуют объективные различия. Мы можем летать, тогда как большую часть истории человечества люди могли только мечтать об этом. Античные авторы не были бы слепы к действенности наших летательных аппаратов оттого лишь, что в рамках их парадигмы они не смогли бы понять принцип их работы. Причина того, почему мы можем летать, состоит в том, что мы понимаем, «что действительно существует», достаточно хорошо, чтобы построить летательные аппараты. Причина того, почему древние не могли сделать это, – в том, что их понимание было объективно хуже нашего.
Если привить реальность объективного научного прогресса на древо теории Куна, то она будет означать, что все бремя фундаментального новаторства несут несколько иконоборческих гениев. Оставшаяся часть научного общества что-то делает, конечно, но в важных вопросах она только препятствует росту знания. Этот романтический взгляд (который часто выдвигают независимо от идей Куна) также не соответствует действительности. Действительно, были гении, которые в одиночку совершали революции в науке; о некоторых из них я уже упоминал в этой книге – это Галилей, Ньютон, Фарадей, Дарвин, Эйнштейн, Гёдель, Тьюринг. Но в целом эти люди умудрялись работать, публиковать свои труды и завоевывать признание, несмотря на неизбежную оппозицию консерваторов и приспособленцев. (Галилей был сломлен, но не учеными-соперниками.) И хотя большинство из них сталкивались с иррациональным сопротивлением, карьера ни одного из них не соответствовала стереотипу «иконоборец против научного истэблишмента». Большинство из них получали пользу и поддержку при взаимодействии с учеными, поддерживавшими предыдущую парадигму.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
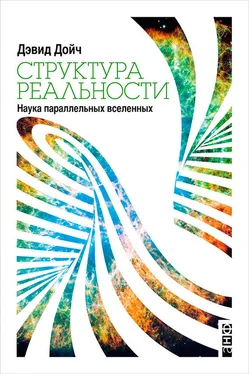

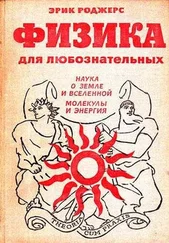
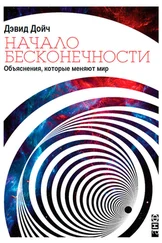


![Йэн Стюарт - Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную]](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-thumb.webp)