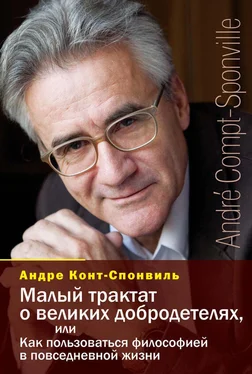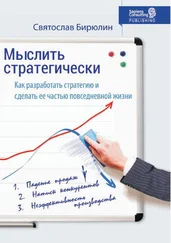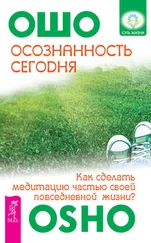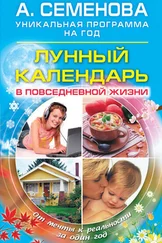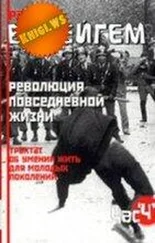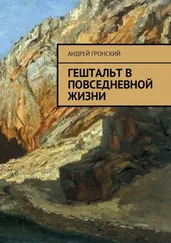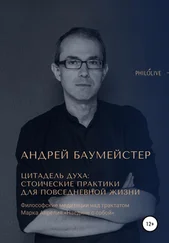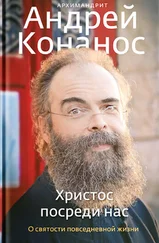Итак, вначале проанализируем речь Аристофана. В лице Аристофана говорит поэт. «Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой», – утверждает он. Наши предки были двуполыми, то есть имели по два половых органа и отличались тем внутренним единством, которого мы лишены: «Тогда у каждого человека тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано». Этой двуполостью объясняется, в частности, то, что раньше люди были не двух, а трех полов: мужчины имели по два мужских органа, женщины – по два женских, а андрогины, как собственно и следует из их названия, обладали половыми признаками обоих полов одновременно. Мужчины, поясняет Аристофан, вели происхождение от Солнца; женщины – от Земли, а андрогины – от Луны, совмещающей оба начала. Все люди отличались выдающейся силой и храбростью, так что даже попытались подняться в небеса и сразиться там с богами. В наказание Зевс разрубил каждого пополам, сверху вниз (как режут яйцо). И настал конец полноте, целостности и счастью. С тех пор каждый человек обречен искать свою половину , только в данном контексте это слово следует понимать буквально: прежде мы были «одно», но нас разлучили с самими собой, и с тех пор мы стремимся вновь обрести свою былую целостность. Этот поиск и это стремление и называют любовью и условием счастья. Действительно, только любовь способна, «соединяя прежние половины, пытаться сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу». Отсюда понятно, что гомо– и гетеросексуальность зависит от того, какой природы было прежде единое тело: если полностью мужским или женским, то у человека будет влечение к, соответственно, мужчинам или женщинам; если прежде человек был андрогином, то он будет гетеросексуальной ориентации. Последний случай не пользуется в глазах Аристофана никакими особыми преимуществами, отнюдь нет (можно предположить, что лучше родиться от Луны, чем от Земли, но ничто не сравнится с происхождением от Солнца), так что с этой точки зрения современные толкования мифа об андрогинах грешат ошибкой: ведь андрогины представляли собой всего лишь часть человечества, притом далеко не самую лучшую.
Но ладно. Широкая публика вынесла из мифа Аристофана главное – то, что это прежде всего миф о любви. Той любви, о какой все мы говорим, о какой мечтаем, в какую верим. О любви как религии или сказке, о Большой Любви – всеобъемлющей, окончательной, исключительной, абсолютной. «Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время». Чего они желают? «Слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо». Таково определение любви, отсылающей нас к единству «нашей изначальной природы», как говорит Аристофан. Это любовь, спасающая нас от одиночества (поскольку любовники, соединенные навек, больше никогда не разлучатся). Это любовь, дарующая величайшее счастье. Всеохватная и абсолютная любовь, поскольку человек любит самого себя, в своей восстановленной целостности, в единстве с собой, совершенным. Исключительная любовь, поскольку каждый человек, по определению имеющий лишь одну вторую половину, способен лишь однажды испытать любовь. Наконец, это окончательная любовь (не считая случаев обмана, но это уже будет не великая любовь), поскольку изначальное единство предшествовало нашему появлению и, восстановленное, наполняет нас блаженством до самой гробовой доски и даже, как сулит Аристофан, за ней.
Что ж, нельзя не согласиться, что в этом мифе отразились все наши самые безумные мечты о любви. Но чего стоят мечты? И что доказывает миф? В сентиментальных дамских романах мы встречаем абсолютно то же самое: те же ценности, ту же веру, те же иллюзии. О жизни они говорят не больше, чем миф Аристофана. Аристофан описывает мечту о любви – такой, какую каждый из нас, возможно, пережил в детстве, когда любил мать (так, во всяком случае, считает Фрейд), но больше никогда, если исключить патологию и ложь, и какой никому из нас не дано пережить снова, если исключить чудо или сумасшествие. Мне скажут, что я забегаю вперед, выдвигая в качестве постулата то, что требуется доказать. Допустим. Я понимаю, что против меня выступают Аристофан и сентиментальная женская проза. Зато на моей стороне Платон, ненавидевший Аристофана, Лукреций (а также Паскаль, Спиноза, Ницше и все остальные философы) и Фрейд с Рильке и Прустом. Мне скажут, что книги – это еще не жизнь, с чем я охотно соглашусь. Но попробуйте найти в реальной жизни контрпримеры, и, даже если вы их найдете, что они докажут? Иногда мне приходится слышать рассказ о той или иной супружеской паре, которая действительно пережила подобное чувство полнейшего слияния друг с другом, чувство абсолютного единства. Но мне также не раз рассказывали о людях, которые своими глазами видели Деву Марию. Я не верю ни тем, ни другим. Очень хорошо о чудесах, в том числе о любви как чуде, высказался Юм. Любое свидетельство всегда только вероятно и должно быть соотнесено с вероятностью того, о чем свидетельствует: если событие более невероятно, чем лживость свидетельства, те же причины, по которым мы ему верим (в первую очередь вероятность его правдивости, какой бы высокой она ни была), должны заставить нас усомниться в его правдоподобии (потому что вероятность правдивости свидетельства не может компенсировать более высокую невероятность самого события). Именно так обстоит дело со всеми чудесами, и, следовательно, верить в них неразумно. Я нисколько не удаляюсь от темы: что может быть невероятней и чудесней, что может сильнее противоречить нашему ежедневному опыту, чем байка про двух любящих супругов, являющих собой одно целое? К тому же я больше верю телам, чем книгам и свидетельствам. Для занятий любовью нужны двое (как минимум двое), вот почему совокупление не только не отрицает одиночества, но лишь подтверждает его. Это хорошо известно всем любовникам. Возможно, души и могли бы слиться воедино, если бы они существовали. Но не тела, которые касаются друг друга, любят друг друга, наслаждаются друг другом и остаются двумя телами. Лукреций прекрасно описал это стремление к единению, которое, едва вспыхнув (когда эго словно самоуничтожается), снова гаснет:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу