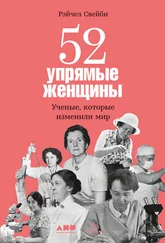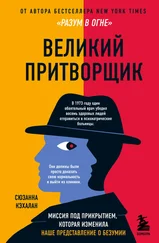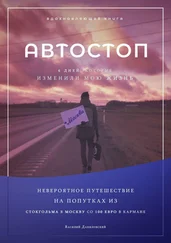Кельвин свел все эти данные воедино и вычислил возраст земной коры – 98 миллионов лет. Оценив неопределенности исходных предположений и доступных в то время данных, Кельвин пришел к убеждению, что с некоторой достоверностью возраст Земли можно оценить в 20–400 миллионов лет [108].
Несмотря на все грубые допущения, это были подлинно блестящие выкладки. Кто бы мог подумать, что человеку под силу подсчитать возраст Земли? Кельвин взялся за задачу, которую на первый взгляд невозможно было решить, и справился с ней. Он опирался на фундаментальные научные принципы и при формулировке проблемы, и при выработке своего метода вычислений, к тому же он пользовался лучшими количественными данными, доступными в его время, причем многие измерения проделал сам. По сравнению с его дотошностью, оценки геологов показались не более чем грубыми догадками и досужими домыслами, основанными на плохо изученных на тот момент процессах вроде эрозии и седиментации.
Число, которое получилось у Кельвина – около 100 миллионов лет – полностью соответствовало и оценке возраста Солнца, которую он сделал еще раньше. Это очень важное обстоятельство, поскольку даже некоторые современники Кельвина понимали, что уверенность Кельвина в своей оценке возраста Земли по крайней мере отчасти опирается на соответствии возраста Земли возрасту Солнца. Главный тезис статьи «О возрасте солнечного тепла» и нескольких более поздних статей на ту же тему не слишком отличался от основного тезиса Кельвина при анализе возраста Земли. Ключевое предположение гласило, что единственным источником энергии, которым располагает Солнце, служит механическая энергия гравитации . Считалось, что эту энергию Солнце получало либо из падения метеоритов (так Кельвин полагал поначалу, но затем отказался от этой мысли), либо, как Кельвин предположил позднее и настойчиво повторил в 1887 году, из того, что Солнце непрерывно сжимается и распыляет гравитационную энергию в виде тепла. Однако поскольку, очевидно, такой источник энергии не неисчерпаем и в результате излучения Солнце теряет все больше энергии, Кельвин справедливо заключил, что Солнце не может вечно оставаться неизменным. Чтобы вычислить его точный возраст, он позаимствовал различные элементы из теорий образования солнечной системы, которые выдвигали немецкий философ Иммануил Кант и французский физик Пьер Лаплас. Затем он дополнил их важными соображениями о возможном сжатии Солнца из работ своего современника немецкого физика Германа фон Гельмгольца. Составив из всех этих данных одну непротиворечивую картину, Кельвин смог примерно оценить возраст Солнца. В последнем абзаце статьи Кельвин признает, что при этой оценке было много погрешностей и неопределенностей.
«Поэтому в целом представляется весьма вероятным, что Солнце освещало Землю не сто миллионов лет и почти наверняка – не пять миллионов. Что касается будущего, можно с той же определенностью сказать, что обитатели Земли не смогут наслаждаться светом и теплом, необходимыми для жизни, еще много миллионов лет, если в великой сокровищнице творения для нас не приготовлены запасы, о которых мы еще не подозреваем [109] .»
Как я покажу в следующей главе и подробно объясню в главе 8, последняя фраза оказалась подлинно пророческой.
То, что возраст Земли, который вычислил Кельвин, соответствовал возрасту Солнца – при том что основания для оценок брались из разных независимых областей – придало аргументации Кельвина весомости, поскольку были все причины полагать, что солнечная система в целом сформировалась примерно в одно время.
И все же многих британских геологов убедить не удалось. Возникает подозрение, что некоторым из них было удобнее все объяснять не физическими законами, а, по циничному замечанию американского геолога Томаса Чамберлина, сделанному в 1899 году, «строительством замков из песка на берегах времени». Лучшим примером подобного скептического отношения к изысканиям Кельвина служит интереснейший обмен мнениями между Кельвином и шотландским геологом Эндрю Рэмси. Поводом послужила лекция геолога Арчибальда Гейки о геологической истории Шотландии. Впоследствии Кельвин пересказал разговор с Рэмси, состоявшийся сразу после лекции [110], отметив, что каждое слово «запечатлелось в его памяти».
«Я спросил Рэмси, сколько времени, по его мнению, заняла эта история. Он ответил, что не может представить себе никаких границ. Я спросил: «Не думаете же вы, что история насчитывает 1 000 000 000 лет?» – «Почему же, думаю!» – «А 10 000 000 000 лет?» – «Да!» – «Солнце – тело конечного объема. Можно сказать, сколько в нем тонн. Неужели вы думаете, что оно светит уже миллион миллионов лет?» – «Я не в силах ни оценить эту величину, ни понять доводы, которыми вы, физики, обосновываете свои попытки ограничить геологическое время, точно так же как вы не в силах понять геологические причины наших неограниченных геологических оценок». Я ответил: “Доводы физики понять очень легко, если только дать себе труд подумать над ними”».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
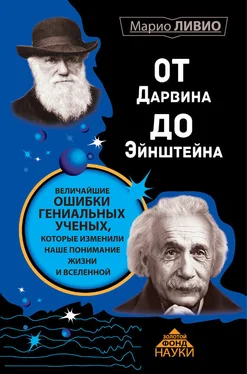
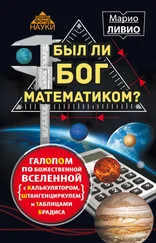


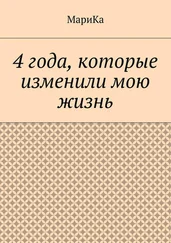

![Ясуси Китагава - Благодаря встрече с тобой. Семь свиданий, которые изменили мою жизнь [litres]](/books/438108/yasusi-kitagava-blagodarya-vstreche-s-toboj-sem-svi-thumb.webp)