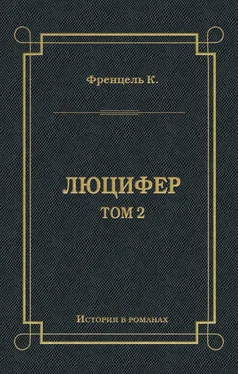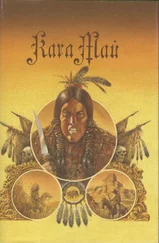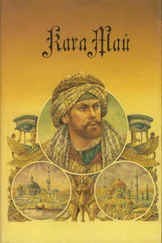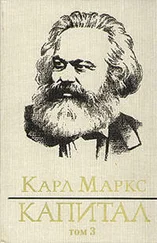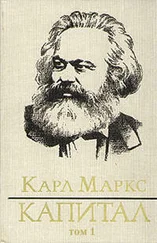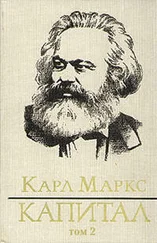В этом рассказе не было ничего нового для Бурдона, если только Цамбелли не скрыл самого главного. Бурдон давно лечил знаменитую певицу, знал, насколько она раздражительна и капризна, и объяснял это дурным состоянием ее здоровья, расстроенного долгим пребыванием на сцене. Не могло удивить его и то обстоятельство, что неловкий намек на прошлое Атенаис произвел такое потрясающее действие на ее нервы. Вероятно, немало было у нее как хороших, так и горьких воспоминаний, которых она не могла забыть, несмотря на годы и ряд новых впечатлений.
Карета остановилась. Шевалье поспешно отворил дверцы и, очутившись на улице, вздохнул свободно, как будто вырвался из душной темницы. Он огляделся и поднял голову. Над ним было ясное небо, усеянное звездами; кругом тишина зимней безветренной ночи. Но он не был астрологом и не мог вывести никаких заключений, глядя на эту массу блестящих точек и созвездий. Он не знал, должен ли он радоваться, что избавился от опасности, или упрекать себя, что не воспользовался случаем и не покончил со своими врагами. «Ты мог бы уложить их на месте двумя ловкими ударами кинжала, – сказал он себе. – Но разве это спасет тебя? Ты только тогда можешь считать себя вне опасности, если ты окончательно избавишься от той, которая может все выболтать. Я не знаю, способны ли мертвые чувствовать и думать, но говорить они не могут…»
С этими мыслями Цамбелли вошел в дом в сопровождении своих спутников.
Атенаис лежала на ковре в своей комнате в нарядном платье, которое было на ней во время обеда; правая рука ее судорожно сжимала изорванную шаль; густая коса упала с головы и рассыпалась длинными прядями. Припадок еще продолжался. Судороги сменялись слезами и порывами бессильной ярости. Лицо несчастной было искажено болью и гневом; время и страсти отложили на нем свой неизгладимый отпечаток. Эгберт с удивлением спрашивал себя: неужели это та самая красивая женщина с наружностью Юноны, которую он видел в Тюильрийском саду при солнечном свете? Это был тот же мрамор, но поврежденный временем и земною пылью.
Из всех приятельниц Атенаис только одна Зефирина не покинула ее и осталась ухаживать за нею вместе с горничной. Но обе девушки были так беспомощны, что не могли ничего сделать для успокоения больной, и только приезд доктора несколько ободрил их.
Эгберт и Цамбелли удалились в соседнюю комнату, между тем как Бурдон приказал раздеть больную и уложить в постель. Голос и присутствие Бурдона всегда успокаивающе действовали на Атенаис, она узнала его и послушно повиновалась его приказаниям.
– Я больше не нужен, – сказал шевалье Эгберту, когда Зефирина выбежала к ним с радостным известием, что больной лучше. – Передайте мой поклон и благодарность господину Бурдону. Завтра мы опять увидимся с ним.
Несколько минут спустя Эгберта позвали в спальню. Больная наконец заснула тревожным сном, который беспрестанно прерывался бредом.
Бурдон попросил Эгберта посидеть у постели, пока он даст необходимые наставления обеим девушкам и пропишет лекарство.
Несмотря на участие Эгберта к несчастной женщине, он почти не прислушивался к ее бреду, который становился то громче, то переходил в неясное бормотание. Он видел Атенаис второй раз в своей жизни: какой интерес могло иметь для него прошлое певицы и все то, что могла подсказать ей разгоряченная фантазия. Его занимал вопрос – какие последствия будет иметь для него и Бурдона встреча с Цамбелли, и чем больше думал он об этом, тем сильнее было беспокойство, охватывавшее его душу.
Хотя больная по-прежнему металась на постели, но бред сделался слабее, и она только изредка вскрикивала и стонала. Наконец, мало-помалу, припадок кончился; черты лица разгладились и сделались опять красивыми и моложавыми. Это лицо поразило Эгберта, когда он взглянул на него, очнувшись от своего раздумья. Оно живо напомнило ему дорогое для него существо. Зависело ли это от матового освещения лампы, или сходство было вызвано игрой его фантазии, которая обманчиво представляла ему милый образ, но впечатление осталось, как ни старался Эгберт отделаться от него. Он не решался произнести имя той, которая была для него олицетворением всего лучшего и святого. Даже воспоминание о ней в комнате парижской певицы казалось ему святотатством.
В это время подошел Бурдон и, постояв несколько минут у постели больной, сказал Эгберту:
– Ей лучше, но припадок может возобновиться. Я проведу здесь ночь. Сделайте одолжение, вернитесь к моим приятелям и скажите, чтобы не ждали меня.
Читать дальше