Пропутешествовав за каталкой по мрачноватой кишке подвального коридора до железных, выкрашенных серой краской дверей, с отметающей всякие иллюзии надписью «морг», я убедилась, что способна испытывать слабое эхо эмоций. Неожиданно всплыло всё, что я когда-либо представляла себе об этом месте, и что-то похожее на страх впервые коснулось заторможенных чувств. Я не хотела оказаться за этими дверьми! Но оказалась, влетев внутрь за накрытым простынёй телом, словно была воздушным шариком, привязанным за ниточку к никелированному бортику каталки.
Заметавшись у самого потолка, под слабо гудящими лампами, я испытала приступ паники. Парнишка-санитар передал какие-то бумаги другому, тоже молодому, санитару. Или врачу?
– Свистельникова Ирина Анатольевна. Двадцать семь лет. Эта, что ли, из первой хирургии? – буднично спросил он. – Уже звонили. Паталогоанатома вызвал, ага. Вскрытие. Бедняга Толмачёв, второй труп на столе за месяц…
Он откинул простынь с моего лица.
– Красивая.
Я почти не слышала, о чём они говорят – произнесённое вслух имя обрушило стену, отгородившую меня от воспоминаний, и они хлынули обжигающей волной.
Мама. Молодая, хохочущая надо мной. Я, лет трёх от роду, важно шаркающая по комнате старой нашей квартиры в её «выходных» лаковых туфлях…
Папино лицо – голубоватое, спокойное, в окружении гвоздик, которых полон гроб, и бабушкин шипящий шёпот: «поцелуй папу, деточка, поцелуй». Я не смогла…
Отчего-то – море. Спокойный набег невысокой волны на гладкие окатыши камней…
Никита. Вернее – его тёплая грудь под белой рубашкой, и толчки сердца, которые я ощущала всем своим телом, пока он нёс меня на руках по ступенькам ЗАГСа вниз, к украшенной кольцами и лентами машине.
Сашенька. Сморщенная, красно-коричневая, совершенно обезьянья мордашка, с кривящимся ротиком. Её первый крик… Сашка!
Я метнулась туда-сюда, в поисках выхода. Ужас долбился в стены, рикошетил обратно в меня, усиливаясь, гремя, грохоча…
– Не-е-е-е-т! Я не могу умирать! Мне нельзя! У меня дочь!
Я кричала, срывая горло, чувствуя, как наливается кровью лицо. Лицо, которого у меня больше не было…
День второй
Совершенно седая, я точно знала это – нельзя было не поседеть там, в прозекторской – наплевать, что седеть было уже нечему, я, вдруг, оказалась снаружи, возле больницы. На ступеньках сидел, уронив голову на руки, Никита. Он был в тех же джинсах и куртке, в которых провожал меня в больницу. Локти упирались в колени длинных, сильных ног спортсмена, на тёмной макушке подрагивал непокорный вихор.
Я задохнулась, сердце пропустило несколько ударов. Впрочем – это ведь мне только казалось? Рванулась к мужу. Обнять? Утешить? О, да! Я попыталась. Невидимыми руками, не ощущая прикосновений.
– Никита! Я здесь! Я ещё здесь!
Конечно, он не услышал. Поднял голову. Глаза сухо блестели. Красные, припухшие. На подбородке и щеках темнела щетина. Вряд ли он спал в эту ночь, ведь я умерла вчера…
– Где Сашка, Никита?
Словно в ответ мои слова, он вытащил из кармана куртки мобильный.
– Мама, – голос любимого звучал глухо, хрипло – я никогда не слышала его таким, – они сказали, что результаты вскрытия будут завтра… Саша как? Нет, надо же решить вопрос с похоронами.
Он дёрнулся, произнеся последнее слово, голос сорвался. Зажав микрофон второй рукой, мой муж протяжно выдохнул, выпуская из груди хриплый стон, и вернулся к разговору. Разговору с моей мамой.
Я кричала от боли, от сочувствия, от невозможности защитить его от страданий. И никто, кроме меня самой, не слышал этот крик.
Никита тяжело поднялся со ступеней, ссутулился, словно придавленный невидимым грузом, сунул руки в карманы наглухо застёгнутой куртки и побрёл к машине. Я видела её, тёмно-синюю, чистую, отражающую в своих лакированных боках начало весны.
Ох, он и гнал! Я была рядом, я так хотела его остановить, успокоить, но это было невозможно, хоть сто раз вцепись я в него бесплотными руками, ощущая, как ломаются ногти о жёсткую кожу куртки…
– Осторожнее, любимый! Саша, Саша же!
Нет, он не слышал, но постепенно снизил скорость, дав выход ярости и отчаянию.
– Ирка-Ирка, что же ты наделала, Ириска? – он бормотал, выкручивая руль, он горько выговаривал мне свою боль. Свой страх. Свою обиду.
А я молчала, вздрагивая от укоряющего, отчаянного голоса мужа. Зная, что он прав. Зная, что сама виновата…
Живот заболел не резко, тянул и тянул себе пару дней. То прихватывал, то отпускал. То выше, то ниже. А то – вообще в поясницу отдавало. Я спасалась болеутоляющими и недоумевала, отчего это сместился цикл? Никита отругал меня только в воскресенье, когда мы бродили по океанариуму, где так нравилось Сашке. Она бегала от одного морского чуда к другому с криками «Мама, сотри, сотри!» – это «смотри» у неё такое забавное…
Читать дальше

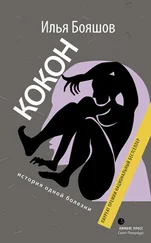

![Татьяна Виноградова - Непростые истории о самом главном [сборник рассказов]](/books/402103/tatyana-vinogradova-neprostye-istorii-o-samom-glav-thumb.webp)








