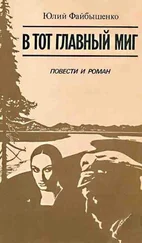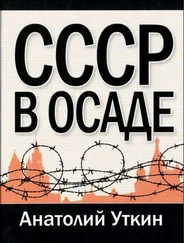— А что ж лабазы-то? — тянулся к нему старик, весь — внимание и забота.
— Пожег кто-то лабазы, — хмуро оказал Клешков. — Выставили меня возле одного. Тот еще не горел. Тут толпа. Я пока с ней занимался, кто-то и последний лабаз поджег. Вот меня и к стенке.
— Значит, сам-то у красных служил? — сочувственно кивал старик.
— В милиции, — пояснил Клешков, — да они мне никогда и не верили. А тут — случай. Ну и — в расход.
— А чего ж они тебе не верили, сокол? — спрашивал старичок, разливая квас. Дьякон густо сопел за спиной у Клешкова.
— Дядька у меня лавку в Харькове держал, а они дознались.
— Происхождением не вышел, — с внезапным восторгом отметил старичок и даже похлопал по ляжкам сухими ладонями. — Нет, ты гляди, а? Купчик, а в большевики лезет! Сам-то тоже в лавке бывал?
— И торговал, — сказал Клешков. Он вспомнил, сколько времени когда-то проводил у Васяни Полосухина, купеческого сына, с которым дружил, вспомнил, как был в одиннадцать лет половым в трактире у вокзала. Тут старичку его не взять. — У дядьки еще и трактир был, — добавил Клешков.
— Трактир, — запел, раскачивая головой, старик. — По питейной части, значит, владелец. Аи ты там и понятие имел, кому что подать?
— Все законы знал, — сказал Клешков, склоняя голову.
— Ан проверим, — щурился старичок. — Дуплет российский к выпивке канцелярской?
— Горчица с перцем, — хмуро ответил Клешков.
— А столоначальникам дуплет к штофу?
— Икра паюсная да сельдь.
— Красно говоришь. Какую материю купец любит?
— Кастор, драп, а женский пол — для праздника крепдешин или крепсатен, панбархат, шелк, атлас. Для буден — гипюр…
— Стой-стой! — со сверкающими глазами закричал старик. — Бостон в какую цену клал?
— Дядя за аршин по десять, а то и пятнадцать брал, — хитро, но с достоинством и медля ни секунды отвечал Клешков. — Для визиток сукно первого сорта до двадцати за штуку материи догонял.
— Что ж, голубь, — сказал старичок, склоняя голову и не отводя глаз от Клешкова, — все говоришь красно, и молод и умен — два угодья в тебе… Да вот… — он жестко вперился в глаза Клешкову. — При обысках бывал?
Клешков помолчал.
— Бывал, — сказал он, подымая глаза, — почтенных людей обыскивали. Страдал, но присутствовал. Не совру.
— Степенный, степенный, — одобрил его старик. — И своей рукой в расход выводил?
Клешков вздрогнул.
— Не было этого, — он вскочил, но могучая лапа дьякона снова приплюснула его к скамье.
— Дать ему, Аристарх Григорьич? — спросил дьякон.
— По-годь, по-годь, Дормидоша, — с дрожью в голосе тянул старичок. — А вот видели тебя, мил-человек, видели тебя за энтим занятием.
У Клешкова задрожало веко. Ложь! Он никогда никого не расстреливал.
— А видели, — сказал он, с ненавистью глядя на старика, — так приведите мне сюда того, кто видел. Я ему сам тут вот глотку перегрызу…, Никого я не стрелял, никого, слышите?!
— А вот оно и ладно, — опять пел старичок. — И куда же собрался ты стопы направить, сокол сизый?
— К Хрену — куда же! — сказал, с трудом успокаиваясь, Клешков. — Один он укроет.
— Э, — сказал старичок, впервые оглядываясь на человека в бурке, тот сделал какой-то едва заметный знак, — укрыть и другие укроют… А к батьке Хрену — оно, может, и попадешь. Видать, такая твоя дорога.
— Да, — сказал молчаливый в бурке из своего угла, — живые сведения о красных. Он послужит доказательством…
Всю ночь шел дождь Утром похолодало, грязь на улицах смерзлась. Когда Гуляев подошел к исполкому, где хотел отыскать Бубнича, стал сыпать снег.
У исполкома толпились чоновцы, перекидываясь шутками, дрогли на ветру в своих куртках, кожухах и пальто. Около них сполошно кричали несколько баб с грудными младенцами, проклиная все на свете и требуя хлеба. Часовой крыльце равнодушно посматривал на прохожих, даже не пробуя проверить документы.
В исполкоме длинные захламленные коридоры были пусты и темны. На втором этаже у предисполкома Куценко шло заседание. За машинкой мучился вооруженный чоновец, утирая от со лба и через час по чайной ложке отстукивая буквы. На обшарпанном диване, ладонями обхватив колени, сидела девчонка в кожанке и платке. Верка Костышева, секретарь.
— Здорово, Вер, — сказал, подсаживаясь к ней, Гуляев, — не знаешь, Бубнич здесь?
— Все здесь, — не глядя на него, ответила Костышева. Она не любила Гуляева, и необъяснимая эта нелюбовь странным образом притекала его к ней, хотя в глубине души он тоже явствовал к ней антипатию.
Читать дальше