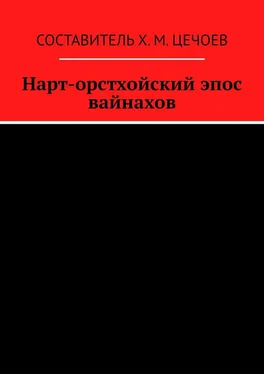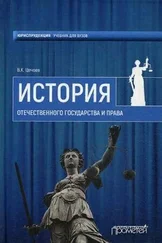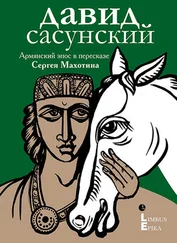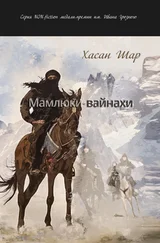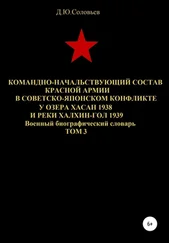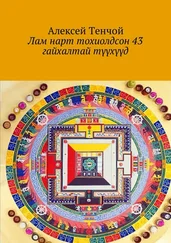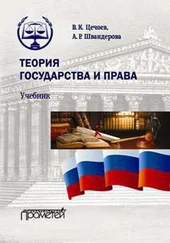Как и весь сонм официальных историков, о причинах такой брутальности тюркоязычных кочевников У. Б. Далгат, разумеется, ничего не говорит; следует принимать на веру, что средневековые тюрки отличались от всех прочих обитателей планеты повышенной агрессивностью и неистребимой склонностью к насилию. Вероятно, их производительные силы действительно «были крайне ограничены», вот и приходилось обирать до нитки все окрестные народы и племена (исключительно мирные и добрые).
Об участии тюрков в этногенезе народов Северного Кавказа исследовательница также не говорит, но отмечает: «С X по XIII столетие северная часть северокавказских степей была занята тюркскими племенами кипчаков. Процесс тюркизации некоторых кавказских народов (балкарцев, карачаевцев, кумыков и др.) имел немаловажное значение для формирования их духовной жизни» (Далгат, с. 13). О том, почему «тюркизации» подверглись именно эти народы, как это могло произойти и какие факты свидетельствуют в пользу такого мнения, ничего не сказано. Не говорит У. Б. Далгат и о том, почему, если эти кипчаки целых три столетия доминировали на всей равнинной части Кавказа, о них нет упоминаний в фольклоре ни одного из народов, населяющих этот регион, нет и этнонима кипчак в их языках (исключение составляют ногайцы).
Далее автор переходит к рассмотрению того общего, что имеется во всех версиях Нартиады, соглашаясь с В. Ф. Миллером, который полагал, что богатырские сказания северокавказских народов представляют собой «один эпический цикл», что проявляется «в обрисовке и характеристике нартских героев, в нартской номинологии, в своеобразии разработки мотивов героизма, в сюжетных и художественных деталях, наконец, в генеалогических отношениях нартских героев». «Сходство нартского эпоса у кавказских народов», как указывал в своих работах Е. И. Крупнов, объясняется «относительной однородностью и единством северокавказской материальной культуры и этнической среды» (Далгат, с. 15).
Монографию У. Б. Далгат можно считать наиболее основательной попыткой разработки «субстратной» теории происхождения Нартиады. По мнению сторонников этой теории, Северный Кавказ некогда населял только один народ, говоривший на одном языке; и якобы этот народ послужил субстратом в этногенезе современных этносов региона. Но, так как эта теория была чисто умозрительной, то и все концепции, построенные на ее основе, были такими же умозрительными и состояли исключительно из предположений. Не составила исключения и концепция У. Б. Далгат. Пытаясь подкрепить ее, она, как и другие сторонники «субстратного» происхождения нартского эпоса, оперирует материалами только одной версии (в данном случае – вайнахской). «Вполне естественно, – пишет она, – что если в собственно кавказский этнический субстрат и проникали иноплеменные сюжетные комплексы, то они вживались в местную фольклорную среду. Применяя сравнительно-исторический метод в изучении богатырского и героического эпоса чеченцев и ингушей, мы будем исходить, во-первых, из понятия фольклорной общности „кавказского субстрата“, во-вторых, из тех специфических условий – исторических, этнических, идейно-эстетических, языковых, в которых формировались и бытовали эпические произведения».
В поисках истоков нартских сказаний У. Б. Далгат обращается к древним пластам вайнахского фольклора. «В качестве наиболее архаического составного, но далеко не исходного элемента вайнахского эпоса нужно признать теогонические рассказы о языческих богах и героях». «Более тесно примыкают к героическому эпосу сказания и предания чеченцев и ингушей о героях-богатырях – родоначальниках. В качестве наиболее древнего исходного начала героического эпоса вайнахов мы признаем сказания о великанах-богатырях, образы которых расцениваются как весьма архаическая типовая категория» (Далгат, с. 17—18).
«Достаточно обширный ареал распространения народных рассказов о великанах на Кавказе» «подтверждает (? – М. Дж.) предположение о существовании здесь некогда сформировавшегося древнего богатырского цикла». «Основными, если не исключительными, признаками персонажей указанного типа являются их физические качества – колоссальная величина, неимоверная сила, способность съедать огромное количество пищи, добываемой примитивными способами, начиная от каннибализма и кончая охотой, рыболовством и скотоводством» (Далгат, с. 18).
Читать дальше