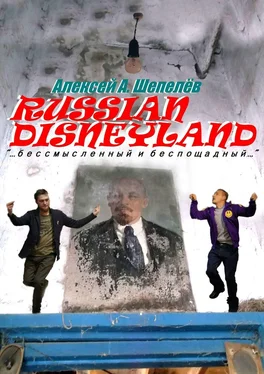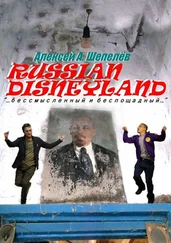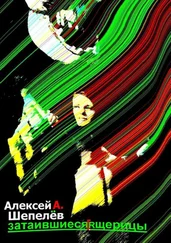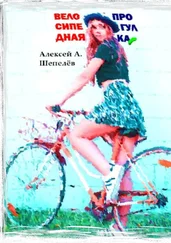Идеал, который во сне? Уж не думал, что я буду так мыслить. Но вернувшись (только года через четыре после её смерти я смог сделать это) в наш домик, я увидел то, что и ожидал: разобранная оградка, заросли американки, развалившееся, специально разбитое крыльцо, забитые окна (а потом доски с них оторваны), сбитый с петель замок, провалившиеся полы, вонючие ватные настилы в пятнах и разводах на пружинных кроватях, грязь и мусор, осыпавшаяся штукатурка, отставшие обои, паутина, жуки и пауки, запах табака и похотливого смрада – на стенах порнокартиночки, под кроватью – использованные презервативы… Мне тогда было плохо, и негде было укрыться. Я тогда лёг на кровать и захотел умереть – ну может быть, не совсем, но почти уже. Я решил не есть и не пить воды. Естественно, то, что я увидел, меня в моём намерении укрепило…
…Все знают, что я родился в деревне. От этого выпала мне достаточно трудная судьбина, ведь я всё больше понимаю (лет с четырёх-пяти), что всё-таки больше я писатель, а не фермер (хотя работа в огороде мне очень по душе), а если характеризовать меня как человека, то одна из основных моих черт (если уж быть честным и отбросить всю шелуху благородных оправданий) – аристократизм. 2 2 Конечно, духовный, а не по крови, хотя изначально они оба как бы едины, и если не считать вырождения кровного от большого богатства или сильной бедности, именно проявляются сами собой не понять откудова в каком-нибудь седьмом колене (у меня, к примеру, все известные предки крестьяне, и ни у кого из родственников не было высшего образования); и вот даже, как сообщили мне недавно, двоюродная наша сестра, учившись на истфаке в Пензе (это уже поколение 90-х с нормой ВО), разыскала там что-то в архивах, что подтверждает некую причастность нашей фамилии к знаменитой боярыне Морозовой, чья судьба и есть довольно редкий и истинный пример синтеза обоих аристократизмов. (Хотя, скорее всего, всё же мне неверно передали или перепутали (у Феодосии Прокопьевны ведь не осталось потомства), и речь всё же идёт о других Морозовых, идущих от купца Саввы Морозова.) Пожалуй, ещё более фундаментальным свойством моей натуры (впрочем, как видно, неразрывно связанным с указанным выше) является некий мистицизм в восприятии реальности, но не книжный, а натурально-стихийный, позволяющий и заставляющий в обыденном видеть иное, чем, естественно, я довольно рано начал пользоваться в своём художественном творчестве. Надеюсь, что в будущих произведениях мне удастся ещё более развить названную тенденцию, привлекая к этому, помимо прочего, интеллектуальные ресурсы.
С другой стороны, закатанный асфальтом, заставленный бетонными параллелепипедами город мне совсем невыносим, особенно сама его цивилизация, подход ко всему. Зато засчёт этого коренного противоречия я стал, как понимают теперь многие, и как понимаю сам, очень своеобразным автором, и как могут подтвердить немногие, кто хорошо знает меня лично, очень своеобразной, практически идеальной и при этом же во многом абсолютно несносной личностью.
Когда Андрей Урицкий в рецензии на мою книжку, включающую роман «Echo» с пятью рассказами, в качестве некого вывода написал про завершающий издание рассказ «Черти на трассе», что именно в этом тексте – по выражению критика, самом странном! – автору удалось достичь «единства игры и серьёза, пафоса и имитации пафоса, абсурда и реализма», т. е. явно посчитав сей текст последним из написанного, я конечно, позволил себе и усмехнуться. Дело в том, что названный рассказ вообще первый из того, что мною написано про людей – раньше, с семи лет и до шестнадцати, я писал исключительно про котов. « М я ва с Мурзиком друзья и решили сделать луки », – вот первое, что я создал (по-моему, в 1985 или в 86-м), а героическое сие повествование (в полторы страницы и несколько простых предложений крупным, но уже небрежным почерком) называлось «Робины Гуды».
Коты у меня (вернее, два главных героя – котята) жили в своём особом мультяшно-мифическом мире – в кошачей стране, в Королевстве (почему-то, а не царстве) кота-короля Янция с названьем кратким Русь Котов. С ними ещё иногда участвовал только один человек, по странности легко вхожий в сказочную реальность – Шофёр, прототипом которого (как и с первых лет жизни в ежедневных играх «В кота и шофер а») стал мой младший брат. Они и Русь от врагов защищали, и в космос летали, и в Китае и в Японии бились с ниндзями и т. д. Детских книжек я не читал, а бежал после уроков к «баб ане» – своей любимой бабушке (так я почему-то звал её, а за мной и все родные, – хотя она вовсе не Анна, а Елизавета; а бабушка по матери, жившая не с нами, как раз баб-Аня, но мы звали её баб-Нюра), в крошечный домик в десяти шагах от ненавистной «б арды» (так уничижительно я именовал школу, и видно, есть за что), ел сваренную в кожух е , покрошенную ломтиками картошку с подсолнечным маслом и чесноком (горячую или уже холодную – одинаково вкусно!) или её же жареную на свином топлёном сале (другой еды почти никогда не было, разве что щи, притомлённые в печке-плите, и воспринималось это как само собой разумеющееся), пил чай и усаживался на огроменный сундук, поставив ноги на табурет, и, расшторив окошко, разложив на коленях свои «причиндалы», принимался писать очередную историю… Если кто-то приближался к дому – шёл к нам – я сразу забрасывал «писанину» за сундук. В сельской местности нет такой профессии – «писатель», зато в литературе понимают все. (С самого раннего-то детства я рисовал (сначала котов и ежей, потом богатырей, потом… приседающую на корточках Яночку… но это уж потом…), но рисунки прятать от посторонних трудней; посему пришлось перейти на письмо – если кто зашёл, быстро захлопнул тетрадку, и всё.) Поэтому читателей (а вернее, слушателей) и критиков у меня за всё десятилетие было только два: бабушка и брат.
Читать дальше