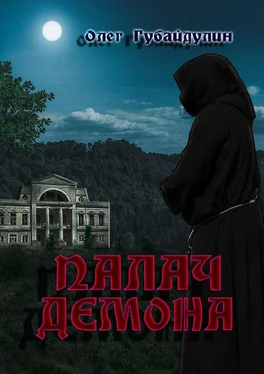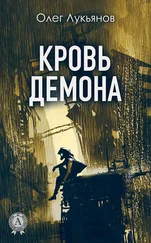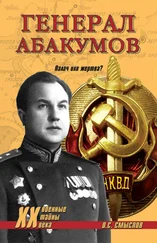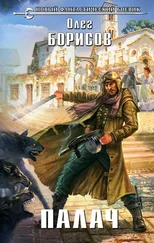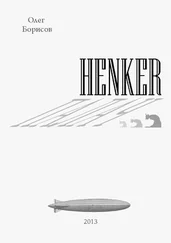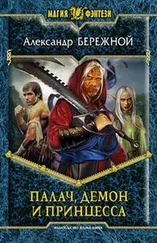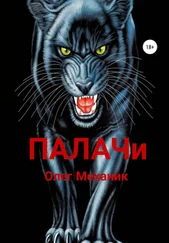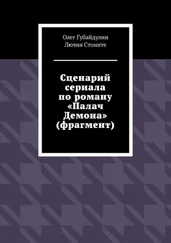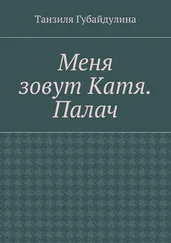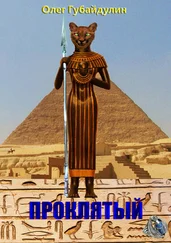Правду сказать, жизнь в тыловой Калуге оказалась довольно таки кипучей. 26 ноября 1916 года там в последний раз состоялось празднование дня Святого Георгия. На параде войск Калужского гарнизона торжественно пронесли знамя прославленного Азовского мушкетерского полка. Эта реликвия была передана на вечное хранение в Свято-Троицкий кафедральный собор Калуги в честь подвига калужанина – унтер-офицера Старичкова. Он 20 ноября 1805 года в сражении при Аустерлице спас знамя Азовского полка. Принимал парад полковник Лучинин.
Кстати, незадолго до этого Константина Евгеньевича догнала награда – Георгиевский крест 3-ей степени. Такой же, но четвертой степени есаул заслужил еще в 1914 году.
Когда начальник гарнизона полковник Лучинин вручал Маматову награду, Константин Евгеньевич взмолился отпустить его на фронт.
– С сентября здесь лежу, ваше превосходительство! – взмолился он. Отправьте меня к моим казакам! Полковник, подозвав начальника госпиталя, спросил его, почему есаула так долго держат на излечении. Выслушав, удивленно вскинул брови: «Ну, голубчик вы наш! Как вы живы то остались, с такими то ранами! На фронт не пущу! И не думайте!» Тогда есаул попросил полковника помочь в поисках медсестры Натальи Абашевой.
Тот пообещал. Но шли дни, тянулись недели и месяцы, а вестей о ней все не было…
В конце января 1917 года начальник гарнизона появился в госпитале и приказал привести к нему есаула Маматова.
– Как здоровье ваше? – поинтересовался он.
– Спасибо, господин полковник, в норме, – ответил Константин Евгеньевич.
– Какое там, в норме! – возмутился главный врач. Свищ то не затягивается.
– Наверное, ругаете меня, последними словами? – тихо спросил есаула полковник Лучинин. Обещал де, старый хрыч, а не выполнил! Так? Но я ей-Богу не виноват! Отправил множество писем по инстанциям и лишь вчера пришел ответ. Узнал я, где ваша Наталья, – начальник гарнизона сделал эффектную паузу.
– Где?! – с нетерпением воскликнул есаул.
– Девушка в Севастополе, – ответил полковник.
И набросился на врачей: «Что вы даже свищ какой-то вылечить не можете?! Такого орла к койке привязали! Завтра же собрать комиссию и решать – на фронт или комиссовать вчистую!»
Однако, главный врач проявил хитрость. Он уже долгое время надеялся засветиться в медицинском сообществе. А тут такой прекрасный шанс! Свищ дает возможность воочию увидеть, как функционирует человеческий желудок! Как, когда и в каких количествах выделяется желудочный сок! Это же готовый научный труд и признание коллег!
Поэтому никакой комиссии он собирать не стал, а спустил дело на тормозах. Благо, полковник обо всем этом благополучно забыл, а напомнить ему было некому. Да и не до того ему было. Известия из Санкт-Петербурга и центральной России с каждым днем становились все тревожнее. Все эти стачки и забастовки окончились в феврале 1917 года буржуазной революцией. Измучившийся неведением, есаул хотел даже сбежать из госпиталя, но не мог, не имел права. Он ведь давал присягу и потому обязан был подчиняться приказам.
В Калугу весть об отречении императора Николая Второго от престола пришла 1 марта (14 марта по новому стилю). А уже на следующий день на совещании гласных городской думы был избран Общественный исполнительный комитет. Его члены незамедлительно направили приветственную телеграмму Временному правительству.
3 марта по Калуге прокатилась волна арестов. Хватали жандармов и полицейских, а также и некоторых военных. На фоне этих событий уже никого не удивило поведение губернатора Ченыкаева. Он, явившись в городскую думу, официально заявил, что слагает с себя все полномочия. Временный комитет города, объявив амнистию, освободил шестерых политических и три десятка административно арестованных. На пост Временного Губернского управляющего избрали главу Казённой палаты Мейнгарда. А 18 (31) марта 1917 года губернским комиссаром Временного правительства назначили кадета Челищева.
На фоне неутешительных вестей с фронта весной и летом 1917 года в Калуге представители социал-демократических партий устроили форменную возню. В апреле о своем объединении заявили большевики и меньшевики. И началось! Бесконечные съезды различных делегатов: железной дороги, кооперативов, крестьян, лесопромышленников и, даже епархиальных, шли один за другим. Большинство раненных офицеров считали все это пустой болтовней.
В эти дни Константина Евгеньевича позабавила статья, которую он прочел в местной газетенке «Голос Калуги». Там писали о том, что латыши, поляки и евреи вдруг объявили себя интернационалистами и открыли социалистический клуб «Разсвет».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу