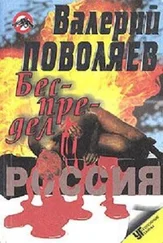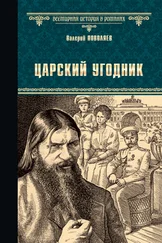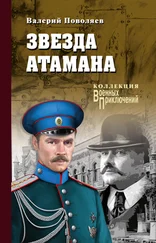— Ничего, — голос Ирины был печальным, — бывает.
— А где горчицу берёте?
— Довоенные запасы. Её много в магазинах застряло. — Ирина поднялась, взяла чайник с подоконника, поставила на ало засветлевшую спину «буржуйки» — разогревается печушка споро, только дрова подкладывай. — Не разбомбили магазины, как, например, разбомбили Бадаевские склады. От Бадаевских складов одна земля только и осталась.
— Одна земля… — эхом отозвался Каретников.
— Ты вначале выпей чаю, а потом уже иди. Ладно?
— Ладно.
Она приблизилась к столу, посмотрела на хлеб, попыталась отвести взгляд в сторону, но не смогла, лицо её показалось Каретникову старушечьим, утомлённым. Только глаза были молодыми, живыми и странно не соответствовали лицу. Каретников думал, что глаза Ирины чёрные, — так ему казалось там, на улице, когда они лежали на ноздреватой боковине сугроба, испуганные друг другом, и никак не могли отдышаться, а глаза не были чёрными.
— Прости меня, — опять повинился Каретников.
— Не за что, — Ирина тонкими длинными пальцами отщипнула кусочек хлеба, положила его в рот и медленно, словно это был не хлеб, а что-то другое, неведомое, очень вкусное, разжевала.
Потом неслышной, невесомой поступью, чуть пошатываясь, прошла мимо Каретникова и скрылась в темной мрачной глуби квартиры. Каретников остался один на кухне. Что он испытывал к этой девушке? Практически ничего — ни тяги, ни, наоборот, отчуждения, ни тепла, ни холода, — и вместе с тем что-то держало его здесь, не давало просто так уйти, и он подчинялся этому невидимому, как некому велению, знаку, поданному вышестоящим командиром, — и нельзя сказать, что это приносило ему неудобство, какие-то лишние хлопоты, он не вступал в противоречие с самим собой, хотя знал, что ему надо медленно двигаться к матери, нырять в ночь, в снег, в ветер, пробираться на Голодай.
Сглотнул слюну: хлебный дух закупорил глотку. Каретников старался не смотреть на хлебную половинку, отрезанную от буханки, он приклеил — именно приклеил — взор к алеющей спине «буржуйки» и старался не отрывать его от печки, думал о том, что огонь, как и люди, имеет живую душу, живую плоть, огню ведомы те же радости и горести, что и человеку, так же ненавистен холод и там, где есть огонь, зло обязательно отступает. Но стоит только разозлить огонь, как он обязательно сделает человеку худо, вот ведь как.
Он вдруг ощутил сзади дыхание, взгляд — так иногда мы затылком, спиной чувствуем постороннего человека. Каретников оглянулся — никого. На плитке зафыркал, захрипел, будто простудный больной, чайник, Каретников подхватил его за ручку, обжегся, но не бросил чайник на пол или обратно на «буржуйку», а донёс до стола. Помотал в воздухе рукой, подумал о том, что в жизни одна боль обязательно перебарывает другую, как перебивает голод и разные неприятные ощущения.
— Подуйте — полегчает, — услышал он тихий голос сзади, снова почему-то на «вы», и замер, будто его заколдовал некий лицедей-волшебник; такое в сказках бывало и будет ещё не одну тысячу раз. — Я серьёзно говорю, подуйте на руку — обязательно полегчает. Проверено на практике.
— Эт-то в-вы? — резко повернувшись, неверящим шёпотом пробормотал Каретников.
— Я. Кто же ещё? — Ирина улыбнулась. Каретников поднёс руку к глазам. Непонятно было, какое это движение — шутливое, нарочитое или всамделишное, серьёзное движение человека, который не верит тому, что видит.
Это была Ирина и одновременно совсем не Ирина.
Перед ним стояла высокая и очень красивая — именно очень красивая — девушка в белом невесомом платье из струящейся блесткой ткани, в белых, сработанных умелой рукой туфлях на точеном десятисантиметровом каблуке. Каретников помотал головой, подумал, что сейчас он свихнётся: не может быть, чтобы это была Ирина! Голова у бывшего ранбольного пошла кругом, в глазах помутнело, горло сдавил знакомый обруч, сейчас ему сделается совсем не по себе, и когда он очнется, то поймёт, что всё происходящее — сон. Сон, неправда, больная одурь, блажь из детской сказочки, мистика, а не явь.
Но это была явь — перед ним стояла Ирина. Лицо узкое, горячее, несмотря на холод — ведь только в кухне тепло, и то с натяжкой, в квартире же холодно, — румяное, будто у девчонки с картины Серова, которая сидит за столом на дачной веранде и любуется персиками, — эту картину Каретников почему-то часто вспоминал, — глаза серо-дождистые, с блеском, волосы длинные, тёмные, аккуратно» подрезанные. Будто и не было недавней дурнушки, полустарушки-полудевчонки, похожей на деревенскую нищенку, обряженную бог знает во что — в какую-то нелепую хламиду на ватной подбивке… Не Ирина, а совсем другой человек.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу