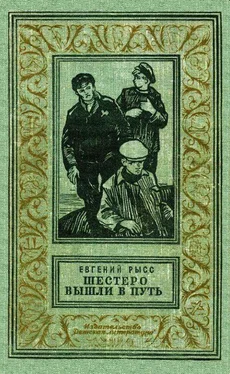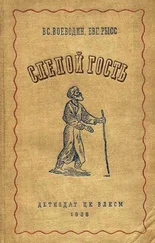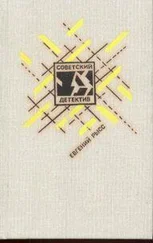Меня взяли учеником в частную слесарную мастерскую. Условие было такое: два года ученичества - потом работа. Только кончился срок ученичества, как хозяин разорился, и мастерская закрылась. Год я, несчастный, маленький человечек, запуганный неудачей, метался без работы. Когда бабка была трезва, мы с ней мечтали, что случится чудо, примут меня на фабрику, буду получать жалованье два раза в месяц, справлю сапоги и пиджак. Все это могло бы случиться, но не случилось. А бабка запивала все чаще и чаще, и, наконец, ее нашли где-то в канаве, страшную, мертвую старуху с синим лицом и скрюченными руками. Я-то знал, что она была добрая, несчастная женщина, но другие ее всегда боялись. Уж очень она походила на бабу-ягу.
Старуха предчувствовала свою смерть. В жалком тряпье, которым был набит ее сундучок, я нашел конверт. На нем бабка нацарапала ломаными буквами: «Коле, когда умру». Почему-то на конверт была наклеена марка. Марка по нашему бюджету стоила дорого. Не могу себе представить, зачем она наклеила эту марку, какие странные мысли руководили ею. Вероятно, марка как-то связывалась в ее представлениях с гербовой бумагой, с чем-то официальным, оплаченным сбором. Вероятно, была у нее какая-то языческая вера, что судьба исполняет только те прошения, которые официально оформлены.
В конверте лежал лист бумаги, вырванный из бухгалтерской книги с полями, отчеркнутыми красной линией. На нем было темными ломаными буквами написано следующее: «Город Пудож, Олонецкой губернии, Пудожского уезда, улица К. Маркса, 28. Николаев Николай Николаевич. Это твой дядя. Ты к нему поезжай, когда я умру. Может, он Христа ради поможет».
Еще несколько месяцев пытался я устроиться на работу. Сначала под впечатлением бабкиной смерти мне кое-что обещали, но скоро смерть ее забылась и я превратился в обыкновенного надоедливого просителя. Я понемногу распродавал жалкое наше имущество, спал на полу и укрывался курткой. Наконец я решился ехать. Я чувствовал, что раздражаю соседей бедственным своим положением. Я не виню их. Время было тяжелое, у каждого хватало своих забот. Все-таки, когда я уезжал, соседи мне помогли. Собрали еще рублей десять, вдобавок к моим скудным средствам, залатали штаны, выстирали рубашку.
Нелегко было узнать, где находится этот Пудож. Никто и не слыхал о таком городе. Сын соседки, учившийся во второй ступени, спросил учителя географии, и тот объяснил, порывшись в атласе, что ехать нужно до Петрозаводска, а оттуда идет пароход в Пудож.
И вот я стоял на палубе парохода, щуплый парнишка в куртке солдатского сукна, и смотрел в туманную мглу, и виделось мне… не помню, что мне виделось.
Наверное, не сказочные дворцы. Не в столицу ехал я, покорять ее своими талантами. Я понимал, что Пудож - крошечный городишко; попросту говоря, дыра. Может быть, мне в мечтах представлялась всего только маленькая слесарная мастерская, такая же, как та, в которой я был учеником, но с той разницей, что в ней есть для меня работа.
Нет, конечно, были у меня и другие мечтания. Мне все-таки было шестнадцать лет, и, как ни был я забит неудачной своей жизнью, кипела же во мне фантазия, какие-нибудь удивительные видения бродили же в бедной моей голове. Я их сейчас не помню. Во всяком случае, не предвидел я того необыкновенного, что ждало меня в маленьком городишке, на неведомом мне берегу северного, холодного озера.
Не берусь описать в подробностях пароход «Роза Люксембург». Помню только, что он был необыкновенно грязен и неблагоустроен. Палубные пассажиры сидели на ящиках и мешках, на цепях и свертках канатов. Внизу была большая каюта. Но о каюте потом. Мне предстояло туда спуститься и многое увидеть за ночь путешествия.
Я долго стоял на носу парохода и смотрел в серую даль. Шумела машина, подрагивала палуба под ногами, из высокой трубы шел черный дым.
Когда берега исчезли за кормой, пассажиры развязали узелки, разложили припасы, поставили баночки с солью и стали не торопясь закусывать. Я держал в руке узелок с салом и хлебом и, хотя мне хотелось есть, не решался его развязать. Я не знал, что меня ждет впереди, жив ли мой дядя, в Пудоже ли он или уехал куда-нибудь, как он примет меня, совершенно чужого ему человека. Денег у меня не было ни копейки. Я отдал за билет все. Двух копеек мне даже не хватило. Кассир, посмотрев на несчастное мое лицо, нахмурился и не стал придираться. У меня не было смены белья. Рубашка моя уже загрязнилась у ворота. Стирать ее я боялся. Она была такая старая, что прямо расползалась в руках.
Читать дальше