Вассарга сменил передо мной Эскалора. На каждом перегибе порфировых сбросов, которые мы одолевали один за одним, он останавливался, шаря беспокойными глазами по трещинам и змеившимся вокруг провалам. И в самом деле, чем-то изменилась местность: особою какою-то мертвенностью были темны скалы. Ни растений, ни ящериц, ни птиц…
— Долго еще будем идти?
— Пока ночь не сойдет. Может быть, и обгоним Хранителей.
Но Вассарга, остановившись на очередной скале, хмуро бросил назад:
— Ночлег!
И медленно спустился обратно.
Задние подтянулись, сбрасывая с плеч под нависший утес вьюки.
— Я могу идти еще. Почему мы остановились так рано?
Вассарга, не отвечая, мотнул головою к скале, с которой сошел. Я положил винтовку и поднялся в свою очередь.
За скалою через трещину, далеко, насколько хватало глаза, тянулся огромный массив, словно опоясанный широкою лентою оглаженного веками дождей камнеската. Выше и ниже этой странной, тускло блестевшей в полумраке опояски громоздился хаос расщепленных скал, слагавших причудливые пещеры, перемеженные гребнями, пиками, валами. Пояс рассечен был трещиной — неглубокой, в рост человека на глаз, — вившейся, как траншея, вдоль всего массива: явственно — здесь и шла Тропа. Переход по ней виделся легким. Почему же мы все-таки остановились?
Я отвел глаза: кругом, назад… в двух шагах от меня, вогнанный в расщеп скалы, на которой стоял я, высился крест. Да, крест. Не такой, как на распятиях христиан, а подлинный, древний, из тех, на которых распинали: толстый брус, с перекладиной наверху, трехконечный. Черный, закаменелый, высокий: в два, в три, быть может, человеческих роста. С перекладины, обвивая столб, свисала седая, в обрывках, кожа огромной змеи.
Крест стоял в стороне, словно захороненный. Но он… загораживал дорогу. Отвратительная, дряблой источенной чешуей чуть шевелившая под взлетами сумеречного ветра, кожа тянула взгляд. На подножье — грубое очертание глаза, вогнутого в треугольник.
Я опустился со скалы вниз, к Вассарге.
Он сидел уже на разостланных под утесом козьих кожах и крошил в деревянную чашку копченое турье мясо. Остальные облегли его, огладывая черствые лепешки.
Я хотел спросить. Но он отрицательно качнул головой:
— Завтра. Ешь и ложись. В эту ночь ты можешь еще не думать о крэн-и-лонгах. О себе думай.
Тело ныло от перехода; в ногах разгоралась замученная тяжелым переходом боль. Я уснул сразу.
* * *
Вассарга разбудил меня до восхода.
Остальные встали еще раньше. Они совещались о чем-то: они и Гассан — я понял это по их особенным, новым, не вчерашним, лицам. Особенно — по Гассану. Притихший, темный, совсем непривычный мне, стоял он в стороне, старательно обегая меня глазами… Да и те не смотрят. Как тюремщики на приговоренного…
И вдруг — молнией, обжигая, сверкнула мысль:
«Западня! Эти люди крэн-и-лонгов!»
Понял ли мысль мою Вассарга, или я невольным, незамеченным мною самим движением взялся за оружие (я и сейчас не помню) — но только он, вдруг, по-стариковски жалко, беспомощно заторопился, затряс седою всклокоченною бородой:
— Таксыр, выслушай нас хорошо, как мы тебе хорошо, от сердца скажем…
Таксыр! Ты видел знак змея? Я знаю от людей (мы ведь преданиями живем), что есть в горах Змеиный город, остороженный знаками. Сам раньше не видел: в горы ходил за зверем, а сюда не забегает зверь: он чует.
…Тропа ведет через Змеиный город. Если ты знаешь слово от змей — иди. Из нас никто не пойдет по этой дороге. Я вспомнил: есть сказание о тропе, что зовется «пляской змей». Смертная пляска. Я стар, но мой час еще не ударил. Ты пойдешь один… если знак не остерег тебя. Расселина под крестом засыпана чешуею мертвых: оттуда подняли крэн-и-лонги знак. Но даже они, Хранители, не переступали расселину мертвых.
…Солнце не взошло: до солнца не спят лишь ночные, бродячие змеи: они без жала, ты знаешь. Если идешь — иди, пока город не проснулся. Горы мертвы: взгляни на гребни. Ни зверя, ни птицы в этих скалах. Ничто не потревожит сна змей, если ты не взбудишь их сам. Если пройдешь — жди за потусторонним знаком: мы выйдем к нему с севера.
Говорить было нечего. Я подтянул пояс, стараясь не смотреть на Гассана.
— Если идешь — иди! — настойчиво, почти враждебно, повторил старик. — Солнце близко.
Не оглядываясь, я поднялся на скалу. Без ружья, только нож на поясе. Легче и тише.
Скривясь, шелестела на кресте дряблая, понурая змеиная кожа. Расселина у подножья шелушилась вся, от дна вверх, глубоко, мертвою чешуей. На откосах ее тлели недоползшие сброшенные шкуры. Я осторожно перепрыгнул.
Читать дальше
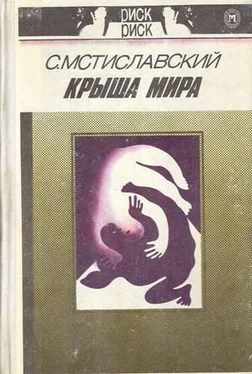




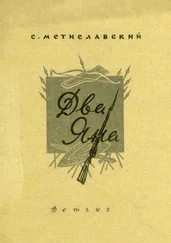
![Владислав Выставной - Метро 2035 - Крыша мира [litres]](/books/418969/vladislav-vystavnoj-metro-2035-krysha-mira-litres-thumb.webp)


