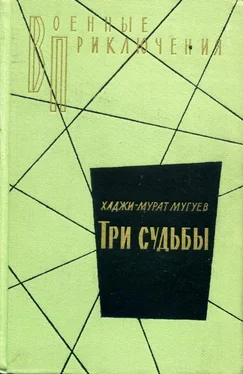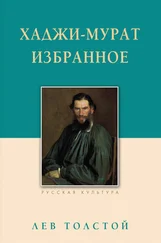Я подъезжаю к Гамалию. Есаул лежит в забытьи. Его открытые воспаленные глаза, не мигая, смотрят в ясное небо. Его бешмет расстегнут. Загорелое лицо с небритым подбородком резко выделяется на фоне белой шеи.
— Иван Андреевич! — тихо окликаю командира.
— Без памяти. Тридцать девять и семь, — устало говорит фельдшер, сам похожий на бродячую тень.
Машу рукой и отъезжаю назад.
— Нужна срочная помощь. Командир сотни без сознания, — резко говорю майору.
— Сейчас подойдут санитарные фуры и с ними медицинский персонал. Дайте короткий отдых людям, И через полчаса прошу двигаться за мной, — взглянув на часы, все так же сухо, начальственным тоном бросает Джекобс.
Арабский поселок Аль-Гушри стоял на правом берегу Тигра и состоял из двух десятков низких ханэ с плоскими крышами, на которых вялились инжир и финики. Густые рощи пальм тянулись по обе стороны реки. Плоскодонные кирджимы [46] Род барки.
и остроносые лодки стояли на приколе у свай, вбитых в илистое дно. Грязноватая вода плескалась о берег, обмывая обнаженные корни повисших над рекой пальм. Верблюжий помет, обрывки бумаги, кожура от фиников колыхались на ней. Собаки копались в отбросах, сваленных у реки. Чайки кричали в воздухе, и темные бакланы парили над водой.
Жители Аль-Гушри с изумлением и любопытством разглядывали толпу оборванных, — неизвестно откуда и зачем прибывших людей.
Английские санитарные фуры, большие вместительные повозки, обтянутые толстым полотном с нашитым на боках красным крестом, поставлены у реки. Прикомандированный к нам санитарный пост состоял из фельдшера и двух сестер милосердия.
Майор Джекобс и его драгуны довели нас до поселка, где уже находился взвод австралийских солдат, удивленно и молча разглядывавших нас. Две английские походные кухни, большие кипятильные чаны и пять резиновых ванн составляли весь предоставленный нам инвентарь.
— А это чего такое? Невжели мыться? — с удивлением спрашивают казаки, оглядывая похожие на огромные калоши ванны.
— От нехристи, и баньки как следует не умеют сделать, — покачивая головой, говорит Востриков, щупая резиновые борта ванны.
— Ваше благородье, разрешите, мы сами баньку соорудим. Нехай английцы у нас этому делу поучатся, — просит Никитин.
Он еще слаб, его слегка лихорадит, но большие дозы хинина уже оказывают свое действие.
Полуодетые казаки, опираясь кто на палку, кто на плечо соседа, группами и в одиночку медленно обходят поселок. Любопытство не покидает их. Они бродят по улочке, заглядывают во внутренности хижин кивают и улыбаются арабам, безмолвно, но гостеприимно встречающим их. Только очень больные и усталые люди остались лежать по ханэ.
— Вашбродь, есаул опамятовался, вас кличут! — слышу я за собой голос Горохова.
Командирский вестовой выглядит довольно браво. Его русые усы подкручены вверх, а на лице играет давно уже не появлявшаяся улыбка.
— Что, брат, рад, что добрались? — спрашиваю я.
— Дак что добрались — радости мало. Вот когда обратно возвернемся живехоньки, тогда и попляшем, — неторопливо отвечает он.
— Ну, ладно, философ. Доложи командиру: сейчас приду. — И, отдав приказания Никитину, иду к ханэ, в которой находится Гамалий.
Есаул лежит на больничной койке, под белым кисейным пологом. Английская сестра милосердия возится у раскладного столика, на котором видны шприцы, склянки и большая розоватая бутыль.
Пахнет йодом, камфарой и чем-то специфически аптечным.
Лицо Гамалия бледно, но впалые глаза горят энергическим блеском. Подбородок тщательно выбрит, усы так же лихо, как и у Горохова, подкручены вверх. Он приветливо улыбается и, приподнимаясь на локте, говорит:
— Ну, добрались, спасибо вам, Борис Петрович! Крепкий вы оказались казачина. А я рассыпался, как институтка.
— Что вы, Иван Андреевич, без вас я и двух переходов не сделал бы. Вы привели нас сюда, вы спасли сотню. А что свалились — это случайность, с любым могло произойти.
Гамалий ласково глядит на меня и тихо смеется.
— Ну, как люди? Никто не отстал, не погиб?
— Никак нет. Все девяносто семь налицо. Трое особенно сильно ослабевших лежат в английском околодке, остальные быстро оживают.
— Приходят в себя? — тихо переспрашивает Гамалий и так же тихо, кажется, даже не мне, а отвечая своим мыслям, говорит: — Настрадались, намучились казаки, хлебнули горя в этом походе. А для чего? — еще тише договаривает он.
Я смотрю на есаула.
За весь долгий, тяжелый путь в первый раз он сказал то, что иногда читалось в его умных, суровый глазах.
Читать дальше