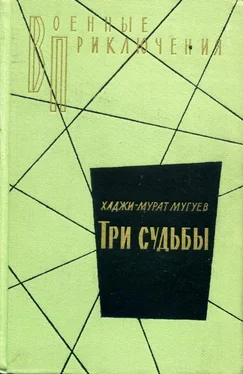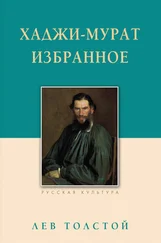Все внимательно выслушали рассказ Скибы.
Садясь на свое место, он увидел блестевшие глаза Маруси.
Атаман станицы не без труда прочел присланную ему из Моздока бумагу, почесал лоб и вздохнул.
— Ну и дела! Как бы самому на фронт из-за этих щенков не угодить.
Он встал и, выглянув в сенцы, крикнул:
— Де-жур-най! А ну, давай сюды немедля Прасковью да родителей Миколки, черт бы его взял. Жив-ва!
— Какую Прасковью, Степан Семеныч? — не понял дежурный.
— Какую, какую! Скибову бабу, не знаешь, что ли? Да и стариков торопи, времени нету с ими прохлаждаться.
Дежурный исчез.
Атаман снова взял бумагу и, качая головой, стал медленно просматривать ее. Вошел Дударев, станичный писарь, франтоватый казак, всю мировую войну проведший в интендантстве в Моздоке.
— Да-с, история, скажу я вам, уважаемый Степан Семеныч, — играя серебряным набором пояса, сказал он. — Острамили казаков, опозорили станицу! Я еще когда говорил вам, Степан Семеныч, помните, весной-то, расстрелять надо Скибу, а не на фронт.
— Следовало б, да кто ведь знал. Я думал, он, вражина проклятая, очухался. А он, на вот, чего выкинул. И еще дурака этого, Миколку, за, собой потянул!
— По головке за это не погладят… Да, не погладят, — многозначительно протянул Дударев.
— А ты, брат, помалкивай, твое дело маленькое. «Не погладят»! Ты что мне, атаман отдела, что ли? Или сам в станичные нацелился?
— Зачем мне в станичные, Степан Семеныч, я своим местом доволен, за чужим не гоняюсь. А так, промежду прочим сказано.
— Тогда помалкивай! А то, друг ситцевый, супротив тебя тоже найдется что сказать. И про то, как большевикам на машинке печатал, и как полковые трубы упер, и как чеченам казенные винтовки продал. Думаешь, не помню?
— Господь с вами, Степан Семеныч, об чем речь? Разве ж я вам враг или какая сволочь? — оглядываясь по сторонам и прикрывая дверь, забормотал писарь.
— То-то, брат! А то и не учуешь, как на фронте очутишься!
Писарь развел руками, заискивающе глядя на рассердившегося атамана.
В дверь постучали.
— А ну входь! — сердито крикнул атаман, не глядя на собеседника.
В комнату вошла невысокая худощавая молодая женщина с растерянным выражением глаз. Из-под наспех накинутого платка выбивались пряди русых волос.
— Звали, Степан Семеныч? — спросила она.
— А-а, пришла большевичка, — не отвечая на вопрос, хмуро сказал атаман.
— Чего это вы так обзываете…
— Как есть, так и обзываю. Тебя б, паскуду, еще хуже следовало, да уж нехай это делают другие. Собирайся.
— Куда ж это? — отшатнувшись, бледнея, спросила женщина.
— А то не знаешь? — ухмыльнулся писарь.
— Чего не знаю? Истинный бог, ничего не ведаю, — переводя с одного на другого взгляд, пролепетала женщина. — Убит, что ли? Ну, убили? Да?
— Кого это? — с ухмылкой спросил Дударев.
— Панаса, мужа моего.
— Ты, Прасковья, не морочь мне голову. Мы, наперед тебе говорю, все знаем. Начальству все известно, так ты не ври, а то вот!.. — и атаман поднес к лицу женщины свой грязный, волосатый кулак.
— Да что же случилось? — переводя дыхание, проговорила она.
— А то, что и тебе известно. Дезертир он, изменник, перебег к красным, вот что! — наступая на Прасковью и глядя на нее злыми, округлившимися глазами, крикнул атаман.
— Неправда… убили его! — со стоном проговорила Прасковья.
— Надо бы убить, да убег, вражий сын, к своим. Нич-чего, не долго ему там прохлаждаться. Наши уже Харьков взяли, а там и Москва близко. Одна ему дорожка — на веревку, — проведя по шее пальцем, сказал писарь.
— Знала ты об этом? Говорил тебе твой сукин сын чего?
— Насчет перебега к красным, — пояснил писарь, поглаживая ладонью пробор.
— Неужели правда? Как же теперь быть-то, пречистая мать богородица… — не слушая Дударева, прошептала Прасковья.
— А так. Посадим тебя в холодную, да выпорем, да из станицы к чертовой матери вон. Не надо нам шлюх советских, вот как! — сказал атаман.
— Ничего! Бабенка ты, как бы сказать, молодая, ядреная, выдержишь, а опосля найдешь себе казака или иногороднего и все забудешь, — хихикнув, сказал писарь.
— Помолчи, Прокоп Иваныч. Не такое время, чтобы шутковать, — остановил его атаман.
Писарь смолк.
— Ну, говори. Знала об этом?
— Ох, господи, ничего я не знала. Да и отколь было знать-то? Дак верно ль вы гутарите, господин станичный атаман, о Панасе? — робко спросила Прасковья.
— Чего уж верней. И сам, гад, убег и еще этого дурака Миколку сманил, — понимая, что женщина ничего и не могла знать о замыслах мужа, пробурчал атаман.
Читать дальше