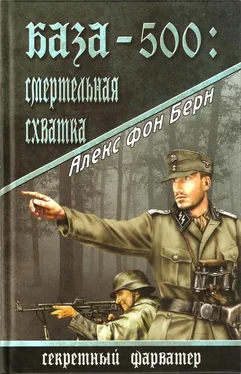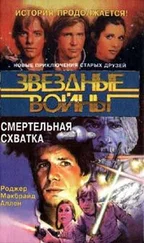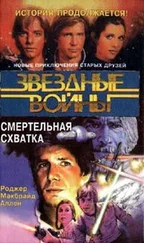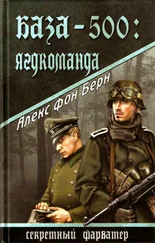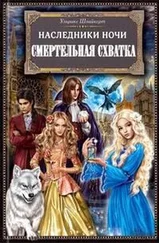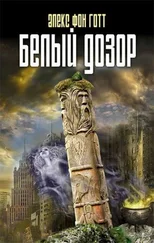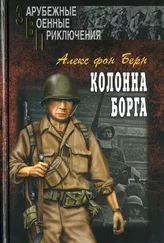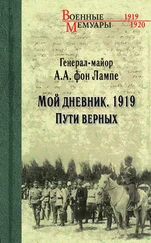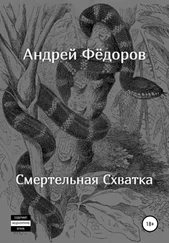В начале 1930 года доктор Рудольф Кунхольд, руководитель Управления исследований германских ВМС, занимался разработками аппарата, способного обнаруживать под водой цели методом отражения от них звуковых волн. В процессе исследований Кунхольд понял, что аналогичные результаты можно достичь в воздухе при помощи радиоволн. Он провел в этой новой области серию экспериментов и применил в своем приборе новейшую электронную лампу производства голландской компании Philips, способную генерировать мощность 70 Вт на частоте 600 МГц. Кунхольд закончил постройку своей РЛС в 1934 году в научно- исследовательских лабораториях германских ВМС в Пелзерхакене. РЛС Кунхольда на официальной презентации командованию Кригсмарине имела большой успех, поскольку кроме способности обнаруживать корабль на дальности 11 километров, РЛС также обнаружила и небольшой самолет, который случайно появился в том же месте.
Первую наземную экспериментальную станцию радио- обнаружения «Дармштадт» немцы создали в 1936 году. Однако реальный толчок развитию немецкой радиолокации дала начавшаяся война.
С началом Второй мировой войны в ПВО Германии на вооружении находились в небольшом количестве (12 штук) РЛС типа «Фрейя» (FuMG-80, принятое в Германии обозначение радиоаппаратуры, от Funkgeraet — радиостанция). Но их роль была невелика, в первую очередь из — за проблем, далеких от науки и технологии: РЛС из — за своей малочисленности не вписывались сложившуюся структуру ПВО, основанную на системе прожекторов, звукоулавливателей и зенитной артиллерии. Вообще, роль РЛС в современной войне руководством люфтваффе (которому подчинялась система ПВО) недооценивалась: новая техника просто вызывала недоверие. Отдельные полеты бомбардировщиков Великобритании над территорией рейха в 1941 году носили эпизодический характер и не рассматривались как угрожающие для населения и промышленности.
Начавшиеся регулярные бомбардировки Германии англичанами, а с 1942 года и американцами заставили командование люфтваффе изменить взгляды на организацию ПВО и развернуть с 1942 года широкую сеть радиолокационных постов на территории Германии и оккупированных стран с целью эффективного раннего оповещения сил истребительной авиации ПВО.
У Германии с 1942 года выход был один: оборудовать радиолокационными постами всю береговую черту от Франции до Норвегии, протяженностью более 2000 километров. За два года немцы эту задачу почти решили. Была разработана и принята на вооружение целая серия как новых, так и модернизированных РЛС. К 1944 году на линии Атлантического вала был создан радиолокационный пояс из нескольких сотен станций, которые образовали почти сплошное радиолокационное поле с возможностью обнаружения английских и американских бомбардировщиков, летящих через Северное море к городам Германии.
Глубина разведки радиолокационного поля немецких РЛС раннего оповещения достигала 200–250 километров, а в конце 1944 года — до 350 километров. Однако чтобы достичь таких характеристик по дальности обнаружения, немецкой радиотехнической промышленности пришлось изрядно потрудиться. Прорыв был достигнут благодаря огромным усилиям, которые с 1941 года приложили начальник управления связи люфтваффе генерал Вольфганг Мартини и командующий ночной истребительной авиацией полковник Йозеф Камхубер, чтобы дать решающий импульс в решении проблемы создания РЛС.
В конце 1941 года генерал Мартини организовал конференцию, на которую были приглашены ученые от промышленности и военные из исследовательских организаций и испытательных центров. Целью конференции являлось: обеспечить тесные контакты между специалистами из заказывающих организаций и конструкторскими силами крупнейших радиотехнических фирм в деле срочного освоения радарных технологий и создания новых станций.
Военные разработали технические задания на новые станции, но медлительность промышленности, вынужденной в условиях военного времени заниматься новейшими разработками, вызывала раздражение у руководства люфтваффе. Помимо естественных проблем технического характера, положение усугублялось тем, тотальная мобилизация на фронт в связи с начавшейся в 1941 году восточной кампанией обескровила научный и инженерный потенциал в самой Германии. Германская наука и промышленность стали жертвами близорукой концепции Геббельса, утверждавшего, что «любой дворник, работающий метлой, сегодня приносит большую пользу для рейха, чем ученый, всю жизнь изучавший одну микробу…»
Читать дальше