Слова сыпались из рупора легко, как шарики из ладони, и прыгали по болотцу дробно, и эхо рикошетило их во все концы.
— Бросайте обоз с оружием, переходите сюда… — торопился Миронов. — Условия хорошие… четыреста грамм белого… крупу…
Он уже говорил взахлёб, давясь слюной, как будто бы спеша прочитать заранее составленный для него текст, и слова стали долетать отрывками, как из испорченного репродуктора:
— …пачки сигарет… сахар натуральный… селёдка…
Оглушительно грохнуло над ухом Топоркова. Горячая гильза выпала на песок из снайперской винтовки Андреева.
— Не слушайте командиров, которые пулей глушат правду! — выкрикнул Миронов.
— Эх, не умею на слух, — сокрушённо вздохнул Андреев.
Затем рупор снова проскрипел по-немецки и смолк. Мертвенная тишина воцарилась над топью.
— Ну, чего язык закусил? — Лёвушкин ткнул Бертолета.
— Они подвезли миномётную батарею, — пояснил подрывник с усилием. — Утром откроют огонь на уничтожение.
— С этого бы и начинали, — проворчал Лёвушкин. — А то: «селёдка, сахар натуральный…» Жалко, нет у нас такого «матюгальника», в который кричат, я бы им пояснил…
— Наша задача — продержать здесь егерей как можно дольше, — сказал майор. — Будем рыть окопы.
— Сколько мы сможем продержаться под обстрелом? — спросил Бертолет.
— Если у них батарея батальонных миномётов калибра восемьдесят один, то около часа, — ответил Топорков чётко и сухо, словно справку выдал. — Если ротные пятидесятки, то несколько больше… Но обстрел они начнут с рассветом.
Андреев, спустившись под бугор, к обозу, принёс большую ковшовую лопату с длинным черенком. Первым, поплевав на ладони, взялся за работу Гонта.
— Эх, судьба-индейка, ладно! — Лёвушкин махнул рукой, как бы окончательно смирясь с неизбежностью того, что должно было произойти на рассвете. — Одного только жалко: этот гад Миронов жить останется!
— Не останется, — успокоил разведчика Топорков. — Если нам удастся выполнить задание, ошибки с обозом ему не простят.
— Уж я тогда постараюсь продержаться, — сказал Андреев.
Партизаны лежали у очага тесной группой, курили, пили чай из дюралевых кружек и котелков, и был у них вид людей, которым некуда спешить.
Только Гонта сидел особняком, мрачной глыбой, на гребне холма, у пулемёта.
Лёвушкин вдруг как-то беспокойно заёрзал на песке, кашлянул в кулак и, поморщившись, как от оскомины, отстегнул под ватником карман гимнастёрки, достал небольшой, сложенный вдвое листок с каким-то замысловатым, расплывшимся от пота и дождя рисунком.
— Вот, товарищ майор, всё хотел вам отдать, да минутки свободной не было… Схемка тут какая-то нарисована… Раньше ещё… ну, до того как выяснилось, вчерась… — Лёвушкин не поднимал глаз, — вы придремали, а схемка торчала из кармана. Сами понимаете, мы на вас грешили, любопытно было, что за схемка… Прощения прошу! — неловко закончил он монолог и отдал бумажку майору.
— А у вас какая была до войны профессия? — спросил Топорков, щурясь.
— Да нормальная… Нормальная профессия. Ну а в детстве беспризорничал, так что, сами понимаете, схемку было нетрудно прибрать…
— И разобрались в схемке?
— Нет. Чего-то тут такое. — И Лёвушкин нарисовал в воздухе извилистую линию. — План местности или чего…
— Эту схемку заместитель командира отряда Стебнев нарисовал, — пояснил Топорков, разворачивая листок и поднося его к огню. — Во время разработки… Так сказать, символ операции… А я в карман положил. Пускай, думаю, если в живых никого не останется, фрицы полюбуются, как мы их одурачили с обозом. С болота снова взлетела ракета, тени побежали по острову, вспыхнул туман, и Топорков показал всем рисунок:
— Расплывчато чуть-чуть… Это кукиш, Лёвушкин.
— Кукиш? — переспросил разведчик, и светлые его брови изобразили сразу два взведённых курка.
— Да, кукиш. Иначе говоря, фига или дуля. Вот!
И майор, неожиданно озорно усмехнувшись, продемонстрировал наглядно изображённый на бумаге предмет.
— А я думал — план, — охнул Лёвушкин.
Он посмотрел на майора, насупившись, затем вдруг открыл в улыбке все тридцать два безукоризненных зуба и неожиданно заливисто рассмеялся:
— Вот дурак я!
И самое неожиданное — поддержал его майор, этот сушёный гриб. Его улыбка, бледно расцветая на лице, вдруг расширилась, и майор, обнаружив концлагерную щербатость, рассмеялся — вначале разбавляя хохот сухим покашливанием, а затем уже, не сдерживая себя, в полную силу.
Читать дальше
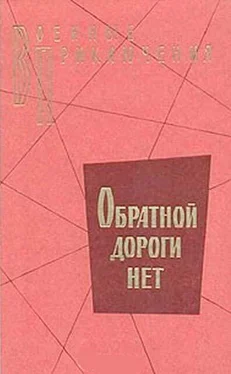





![Игорь Болгарин - Обратной дороги нет [сборник]](/books/388443/igor-bolgarin-obratnoj-dorogi-net-sbornik-thumb.webp)
![Виктор Зайцев - Дранг нах остен по-русски. Обратной дороги нет [litres]](/books/415672/viktor-zajcev-drang-nah-osten-po-thumb.webp)




