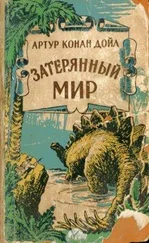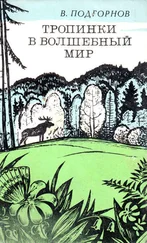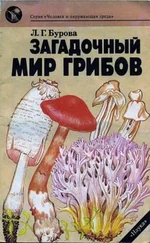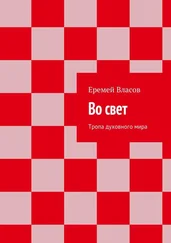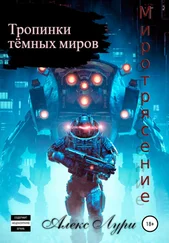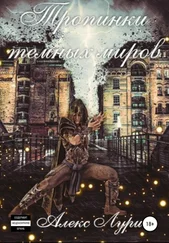Все остальные птицы поедают шишкоягоды арчи целиком, но переваривается у них только сахаристая их мякоть, а твердые косточки выходят неповрежденными и нисколько не теряют своей жизнеспособности. При экспериментальной проверке они дают всходы даже раньше, чем контрольные семена, не прошедшие через пищеварительный тракт птиц. По-видимому, кислоты, содержащиеся в желудочном соке, хорошо очищают косточку от смолистых веществ, препятствующих доступу влаги к зародышу, что и ускоряет его развитие. Кроме того, попадая на почву вместе с птичьим пометом, семена сразу же получают и какую-то дозу высококачественного удобрения.
Осенью и зимой в Западном Тянь-Шане, где мы проводили наблюдения в 1959—1966 годах, семенами арчи питаются многие млекопитающие — от мелких мышевидных грызунов до бурого медведя, а также птицы, среди которых наиболее многочисленны альпийские галки и четыре вида дроздов — деряба, рябинник, чернозобый и черный. Масштабы их деятельности по разносу семян очень велики, так как эти птицы кормятся шишкоягодами почти полгода — с сентября по март.
Как-то в середине января в каньоне реки Аксу в Таласском Алатау мы наблюдали за ежедневными кормовыми вылетами альпийских галок из скал альпийского пояса в предгорья. Каждое утро, около десяти часов, огромная стая этих птиц, не менее тысячи особей, медленно двигалась по направлению к низовьям. Время от времени часть их присаживались на какое-нибудь из растущих по склонам каньона деревьев арчи, и тогда остальные образовывали некоторое подобие воронки, пикируя вслед за своими соседками. Подвергшееся такому «нападению» дерево становилось буквально черным от облепивших его птиц. Обобрав шишкоягоды, стая поднималась и продолжала движение, пока не выбирала следующее подходящее дерево.
Возвращались галки в верховья примерно в шестнадцать часов. Летели они уже сравнительно небольшими стаями, по пятьдесят-сто особей, вдоль скалистого борта каньона, обращенного к югу, то есть там, где были хорошо выражены восходящие потоки нагретого воздуха. Около каждого поворота каньона птицы кругами набирали высоту, а затем без единого взмаха крыла планировали до следующего скалистого выступа. За час проследовало не менее десяти таких стай. В пищеводе и желудке добытой галки мы обнаружили остатки сорока трех шишкоягод. Можно предположить, что пролетевшая в верховьях тысяча птиц несла с собой одновременно сорок три тысячи шишкоягод арчи! Если учесть протяженность их маршрута, равную почти тридцати километрам, и его регулярность (мы наблюдали эти полеты ежедневно, а Л. М. Шульпин в этом же месте видел их за 30 лет до нас!), то можно представить себе ту колоссальную роль, которую играют в расселении арчи эти птицы. В скалы, расположенные выше верхней границы сплошных арчовников, семена попадают исключительно благодаря альпийским галкам.
«Сеятелями» арчи являются и дрозды, особенно деряба. Чтобы установить количество поедаемых этими птицами шишкоягод, мы еще в 1965 году провели простой эксперимент. Трех деряб, выращенных из птенцов, поместили в просторные клетки и зимой кормили шишкоягодами полушаровидной арчи. Каждое утро закладывали в кормушки по сто шишкоягод, а затем в течение дня наблюдали за их поеданием и скоростью их переваривания. В полдень добавляли еще по сто шишкоягод, а на следующее утро, перед дачей корма, тщательно убирали накопившийся помет. Обнаруженные в нем семена впоследствии высаживались для проверки на всхожесть.
Так нам удалось установить, что один дрозд-деряба за зимние сутки даже в условиях неволи при ограниченных тратах энергии съедает от семидесяти до ста шестидесяти ягод арчи, которые перевариваются в его желудке за двадцать-двадцать пять минут. Простые расчеты показывают, что за полгода — с сентября по март, он способен съесть тринадцать-девятнадцать тысяч шишкоягод и распространить тридцать-сорок тысяч семян. Даже если прорастет одно из ста семечек, то и тогда получится триста-четыреста всходов. И это результат деятельности всего одной птицы! Выясненные нами сроки переваривания семян могут указывать и на возможные расстояния, на которые дерябы разносят семена: за двадцать пять минут дрозд в состоянии пролететь двадцать-тридцать километров. На такое расстояние по прямой дерябы, конечно, не перемещаются, но ежедневные суточные миграции на пять-десять километров они совершают, спускаясь по утрам почти до подножий гор, а на ночь забираясь нередко выше границы леса.
Читать дальше