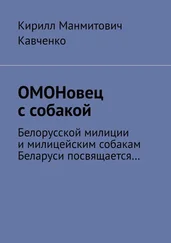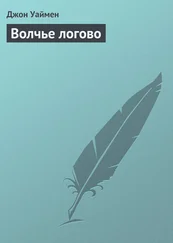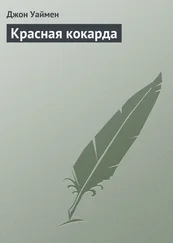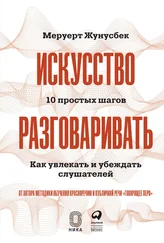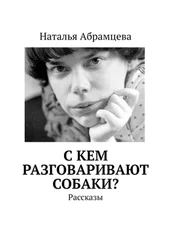За четыре десятилетия эксперимента было получено 35 поколений и приблизительно 45000 лисиц. Вскоре ученые обнаружили, что у них слишком много этих «одомашненных» лисиц. В то же время они столкнулись с уменьшением финансирования из-за слабости российской экономики. Решение обеих проблем свелось к распродаже лишних животных, раскупленных в качестве домашних любимцев, и использованию полученных средств на научно-исследовательскую работу. Но ученые продолжали следить за жизнью некоторых животных, чтобы посмотреть, как они вели себя в новых домах, и нашли, что, принятые в обычные человеческие семьи, эти домашние лисицы вели себя замечательно. Владельцы описывали их как уравновешенных компаньонов и приятных домашних животных. Они хорошо общались с людьми, хотя и были более независимыми, то есть больше похожими на кошек, чем на собак.
Один из важных результатов исследования — то, что, хотя лисицы отбирались на основе лишь одной поведенческой характеристики, а именно дружелюбия, они стали изменяться физически. Появились загибающиеся вниз уши, гибкие, более короткие хвосты, затем изменился на более светлый и даже пятнистый окрас; кроме того, пасть стала короче, голова немного округлилась и расширилась, зубы стали меньше. Все эти изменения подобны тем, которые отличают домашних собак от диких. Весь цикл взросления, от щенка до взрослой собаки, поменялся в процессе отбора. У лисиц, как и у всех собак, есть определенная последовательность и относительно точные отрезки времени, когда признаки щенячьего поведения появляются, а затем пропадают. После их измерения и сопоставления стало ясно, что период времени и уровень развития в процессе приручения изменились. У одомашненных лисиц поведение, подобное щенячьему, появляется очень рано и задерживается намного дольше, чем у диких. Другими словами, мы получили не просто домашних лисиц, а лисиц, сохраняющих щенячьи особенности во взрослом возрасте. Таким образом, работа Беляева демонстрирует нам то, что действительно произошло в процессе одомашнивания собак: размножение с целью повышения дружелюбности и приручаемости привело к выведению собак, которые и ментально, и физически больше походят на щенков волка, чем на взрослых волков.
В отличие от Беляева, который проводил отбор животных по степени их дружелюбия, первобытные люди, скорее всего, выбирали их для размножения по внешнему облику. Ведь очевидно, что животные и люди инстинктивно испытывают особую нежность к детенышам. Натуралисты, например, обладатель Нобелевской премии Конрад Лоренц, предполагали, что это чувство может быть вызвано неким особым впечатлением от молодых животных. В основном они кажутся симпатичными, потому что они маленькие и у них большие глаза, круглые плоские мордочки с милым выражением, и издают они высокие звуки. Оказывается, привлекательность — по сути фактор выживания, делающий взрослых более заботливыми и заставляющий их защищать младшее поколение группы. Современные психологи доказали, что этот фактор выходит за границы одного вида. Мы склонны теплее относиться к котятам, чем к взрослым кошкам, и цыплята кажутся нам более симпатичными, чем взрослая курица. То же самое верно и для щенков по сравнению со взрослыми собаками. Трудно удержаться, чтобы не взять на руки щенка, которого вы случайно встречаете, и не унести его домой. Первобытный человек и, возможно, в большей степени первобытная женщина, вероятно, думали, что среди недавно прирученных собак те, что больше похожи на щенков, самые симпатичные. Так же поступаем и мы. Наверное, самое симпатичное животное получало самую активную заботу. Возможно, они первыми допускались к еде и получали косточку, на которой было больше мяса. И вероятно, их приглашали в дом, так что человеческое убежище защищало их от плохой погоды, и у них появлялось больше возможностей для размножения.
Приручение не только сформировало внешний вид и поведение, но и изменило коммуникацию домашних собак по сравнению с их дикими родственниками. Можно сказать, что у домашних собак наследственные социальные образцы поведения и коммуникации волка фрагментарны и неполны. Поведение собак представляет собой своего рода мозаику, содержащую и некоторые сигналы коммуникации взрослого волка, и множество юношеских сигналов.
Если мы посмотрим на развитие коммуникации волков и подобных им собак, то увидим последовательность появления определенных сигналов. Очень молодые щенки беспомощны и зависимы, поэтому большинство их сигналов относится к просьбам о заботе, к демонстрации покорного, уступающего и умиротворяющего поведения всем окружающим взрослым. Исходя из этого, щенок скорее оближет пасть взрослого или низко присядет, или отведет взгляд. Когда собака становится старше, в ее словаре начинают появляться сигналы социального доминирования. Взрослая собака чаще демонстрирует угрозу, прямой взгляд, рычание или стойку перед другой собакой. То есть вы должны быть готовы к появлению таких сигналов по мере взросления собаки. Более простые сигналы покорности проявляются в раннем возрасте, а доминирующие и более сложные сигналы покорности развиваются позже, когда животное становится взрослым. Если мы называем взрослый язык волчьим, а язык молодых особей — щенячьим, то можно сделать вывод, что говорящий на волчьем в состоянии понять щенячий, потому что он говорил на нем, когда был моложе. Особь, говорящая только по-щенячьи, находится в невыгодном положении, так как, возможно, еще не знает всех понятий волчьего языка. Это проблема, которая может возникнуть между домашними собаками и дикими волками. Собаки говорят на щенячьем языке. Они могут немного понимать на волчьем, но их словарь ограничен, потому что неотения остановила их прежде, чем они достигли полного набора взрослых коммуникативных способностей. Это, как известно, сделало трудной коммуникацию между домашними собаками и волками. В одном исследовании аляскинские маламуты росли вместе с волками, и все равно часто они были не в состоянии правильно прочитать социальные сигналы своих дальних родственников.
Читать дальше
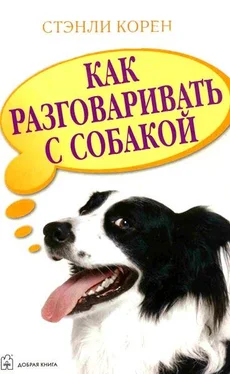
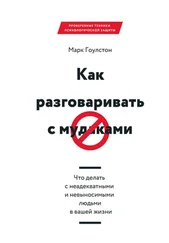
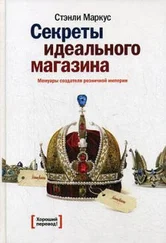

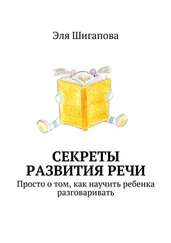
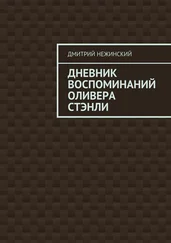
![Петер Модлер - Как разговаривать с теми, кто вас не слышит [Стратегии для случаев, когда аргументы бессильны]](/books/395575/peter-modler-kak-razgovarivat-s-temi-kto-vas-ne-thumb.webp)