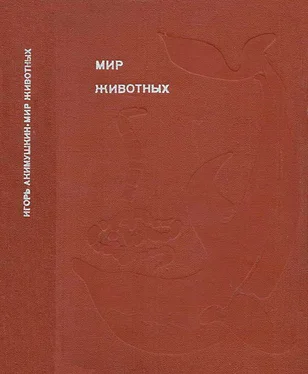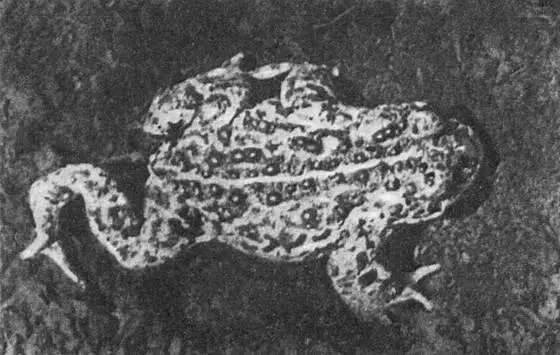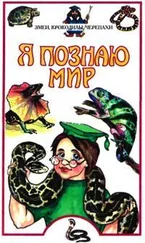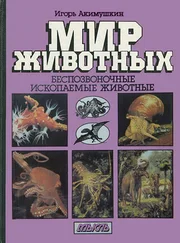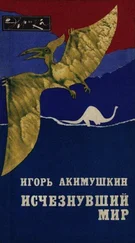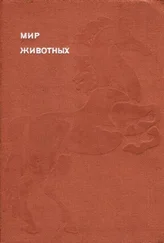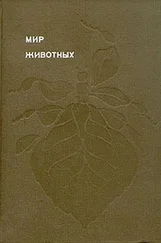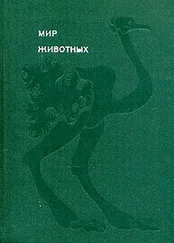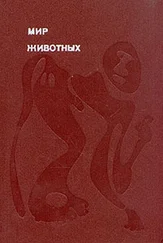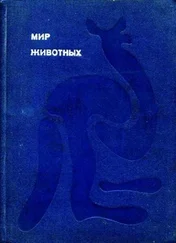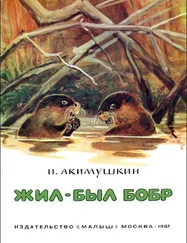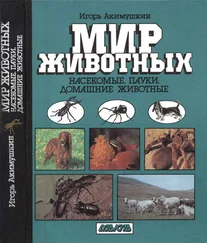Короткими прыжками, торопливо, возбужденно спешат серые жабы-самцы занять лучшие места. У каждого здесь своя территория, которую он оберегает от других претендентов и где в теплые вечера и ночи, взобравшись на какой-нибудь бугорок или пук прошлогодней травы, высунувшись наполовину из воды, глухим «хрюканьем», повторяя его 35–40 раз в минуту, зовет самок. Шуршание в бугристых кочках, всякое (но не быстрое!) движение сходных с ним по росту предметов и животных его настораживает и привлекает, кажется ему, возбужденному свадебным нетерпением, что это жаба-самка приближается! И, толком не разобравшись, он кидается нередко в погоню за прыгающей близко лягушкой, даже за рыбой, плывущей невдалеке. В эту пору, случается, самцы-жабы заключают в крепкие объятия даже карпов, погрузив для лучшего упора большие пальцы лап в рыбьи глаза!
Самец самца от такого нападения предостерегает короткими, металлического тембра выкриками «кунг-кунг!» и особой позой: сильно дышит и вздергивает вверх голову. Так же, но без крика, оповещает отнерестившаяся жаба-самка ухажера самца о том, что она уже освободилась от икры и в его услугах не нуждается.
Интересно, что поза угрозы, предупреждающая естественных врагов, совсем иная. Жаба, надувшись, приподнимается на выпрямленных ногах и покачивается взад-вперед. Но ужей и многих птиц такое устрашение (и жабий кожный яд) не пугает. Напротив, оно даже удобно для нападения, особенно ужу, который не всегда может угнаться за удирающей скачками амфибией.
Вернемся, однако, к водоемам, куда скоро, примерно через неделю после самцов, явились жабы-самки. Эти, как толстые купчихи, передвигаются не спеша, не проворными скачками, а ползком и короткими перебежками. Посидят, отдохнут и опять ползут, перегруженные икрой. Бережно несут ее в чреве.
Когда самки прибудут, многие уже в парах с самцами, которые нашли их по дороге, то права собственности в пруду часто нарушаются. Невзирая на границы своих и чужих владений, компаниями в три-пять, иногда и в десять женихов преследуют каждую новоприбывшую невесту.

Зеленая жаба, раздувая горловой резонатор, издает прямо-таки птичьи трели.
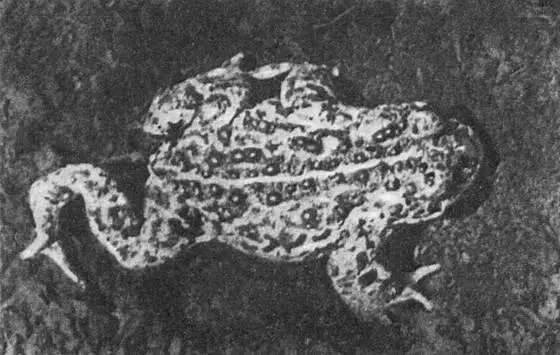
«Жабья рысь» — типичный «аллюр» многих жаб.
Соединяется с ней всегда один. Вдвоем уплывают они на солнечное мелководье у берега. Часами лежат на дне, всплывая лишь, чтобы глотнуть воздуха. В теплый солнечный день начинается икрометание. Жабы плывут в заросли тростников и других водяных растений и, курсируя вокруг стеблей, наматывают на них трех-пятиметровые студенистые шнуры, переполненные тысячами яиц.
Икрометание длится несколько дней, и, закончив его, самки уходят из воды, чтобы вернуться сюда лишь следующей весной. Через несколько дней уходят и самцы. У некоторых от мест весеннего икрометания до летних охотничьих территорий путь дальний: километра два-три, но у многих лишь 1500 метров. Добираясь темными ночами, когда все вокруг скрыто во мраке, эти амфибии каким-то чудом узнают нужное направление, и почти каждая находит место, где жила в прошлые годы. Здесь ее охотничья территория, довольно обширная для маленького существа: 50–150 метров в поперечнике. Здесь, если не найдут других подходящих убежищ, жабы нередко роют норы глубиной до 40 и больше сантиметров. После ночных охот возвращаются в них. Память у жаб отличная.
Но если ночи еще холодные (ниже 11–12 градусов), жабы, закончившие икрометание и благополучно добравшиеся до своих летних резиденций, вновь прячутся в землю и цепенеют в неподвижности. В мае, в теплые вечера, вылезают из укрытий также и те, что в апреле к воде не путешествовали, а таились в земле: незрелая еще молодежь и некоторые самки-жабы. Очень голодны: с октября всю долгую зиму постились. Даже те, что размножались в воде, ничего не ели в это беспокойное время. Ночные поиски пропитания — только в этом теперь главное содержание их жизни.
А икра, оставленная в воде? О ней позаботится солнце: согретые его теплом, развиваются в икринках зародыши. Через неделю-две (если погода хорошая, то раньше, при плохой — позже) крохотные головастики вылезают из икринок. Обычно из всех разом. Дня два набираются сил под защитой студенистых стенок шнура, в котором были «упакованы» яйца. Затем плавают дружной ватагой, многотысячными стайками. Живыми лентами в метр шириной и несколько метров длиной вьются они в пруду. То у поверхности, то погружаются на дно.
Читать дальше