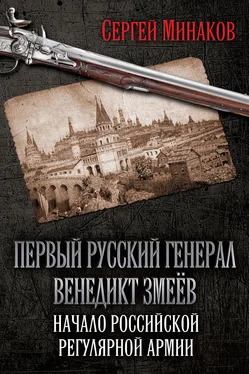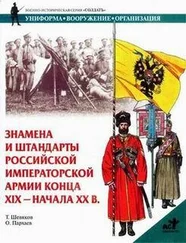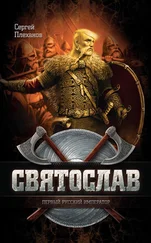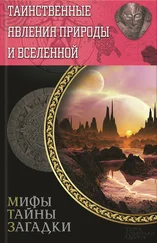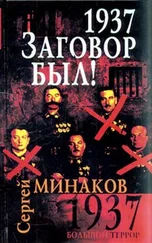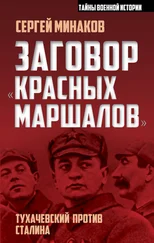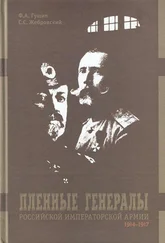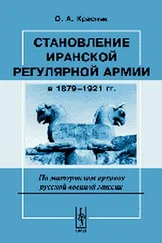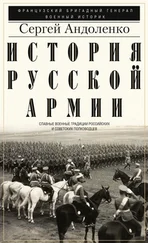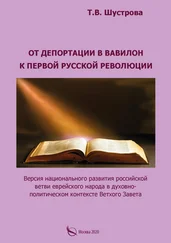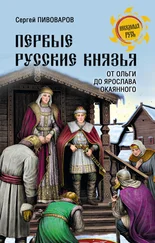Впрочем, оба этих явления, как правило, оказывались в органичной взаимосвязи. «Перманентное» влечение России в Европу и увлечение Европой доходило неоднократно до самозабвенной и самоотверженной (в буквальном смысле этих слов) влюбленности, как правило без взаимности. Однако незаметно, но столь же «перманентно» оно перерастало во взаимное недоверие, неприязнь, неприятие, ментальную враждебность и неоднократно в ожесточенное противостояние. И это противостояние чаще всего порождало очередной поиск новой, обычно «великодержавной», идентификации.
Таким образом, «думный генерал» Змеёв оказался в фокусе эпохи «революционных преобразований» России второй половины XVII – первой четверти XVIII вв., не только в качестве одной из знаковых фигур эпохи, но даже в разноречивом, старорусски-европейском смысле своего воинского чина – «думный генерал».
В.А. Змеёв был первым русским «генералом» из «солдат», из русских «служилых людей» «регулярной рейтарской службы». Именно с него незримо началось формирование «архетипа» русского военачальника «из солдат», много позже емко и выразительно «расшифрованного» М.Ю. Лермонтовым: «слуга царю, отец солдатам».
В своем завершенном, наиболее ярком проявлении эти архетипические свойства русского «генерала из солдат», Солдата с большой буквы, воплотились в великом А.В. Суворове.

Александр Васильевич Суворов
Не мушкетер он короля,
Герой плаща и шпаги,
Готовый обнажить ее в безумии отваги.
Был не хитер, как Мазарен,
Но постоянен, как Тюренн,
Он женских нежных при Дворе
Не привлекая взоров,
В России был всего один —
Солдат и русский дворянин,
Он – Александр Суворов! 6
«…Долговременное мое бытие в нижних чинах, – писал А.В. Суворов своему высокому начальнику и покровителю, – приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей; препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к ним привыкать» 7.
И вновь он объясняет несветские черты своего характера солдатским воспитанием. «Жизнь моя была суровая школа, – признается он, – но нравы невинные и природное великодушие облегчали мои труды: чувства мои были свободны, а сам я тверд» 8.
Казалось бы, несопоставимые военные величины – великий Суворов и малоизвестный ныне первый русский генерал Венедикт Змеёв, но именно с него неприметно начинался великий русский полководец-солдат. Ничтожно мало дошло до нас сведений о свойствах личности, привычках, характере, мировоззрении генерала Змеёва. Поэтому анализ психоментальной сущности Суворова позволяет попытаться проникнуть и в ментальные основы его «прообраза», генерала Змеёва.
«В упорных и решительных сражениях, – пересказывал Е. Фукс размышления самого Суворова, – бывают такие минуты, когда обе стороны, по невольному действию сердца человеческого, ощущают слабость средств своих, бесполезность напряжений и сил истощения. Наблюдение сей единственной минуты доставляет успех и славу. Суворов одним взором усматривал движение рядов и душ русских воинов. К сей минуте нравственного ослабления у него был всегда запас. В самом жару сражения под неприступными высотами Нови Суворов увидел сие расположение душ; немедленно отдал приказ к нанесению неприятелю последнего удара и, когда все войска двинулись, герой сказал: «Велик Бог Русский! – Я победил Моро!» 9.
Словосочетание «русский бог» обычно приписывается Мамаю после его поражения в Куликовской битве. Хотя встречается оно еще в письменных древнерусских памятниках XI–XII вв. 10
Религиозное мироощущение Змеёва и Суворова выражалось во всей совокупности христианско-православной психоментальности, в органично-нерасчленимом единстве вероучения, церковно-православной обрядовости, всего образа жизни обычного, традиционного по духу и мыслям своим русского человека, со всеми его бытовыми привычками, суевериями и предрассудками. В этом мироощущении было все, что питало психоментальные свойства и особенности русского человека как явление духовное, этнокультурное, этнорелигиозное и психокультурное – во всей его исторически сложившейся, духовно-нравственной целостности. Русско-православное мировосприятие формировалось в исторически сложившейся духовной автономизации России, в суровых условиях многовекового выживания, в вынужденном отрыве от остального христианского мира, особенно в мирской религиозно-обыденной повседневности. Ее исчерпывающая была обусловлена ее «заземленностью», сугубо «русским историзмом» в мировоззрении русского человека. Все это и стало народным «русским богом» – «символом веры» и подлинным «естеством» Суворова и, уверен, его «прообраза», думного генерала Змеёва.
Читать дальше