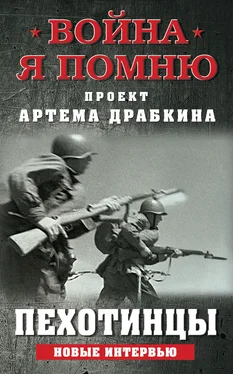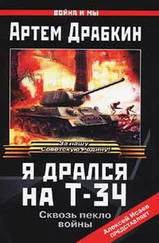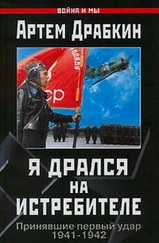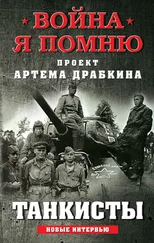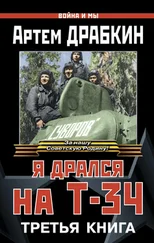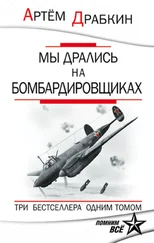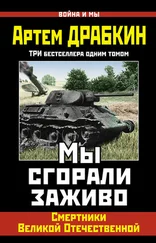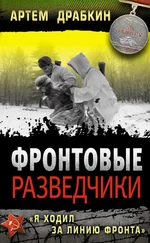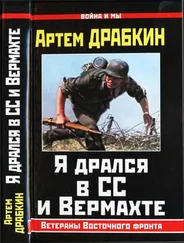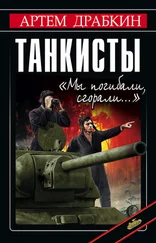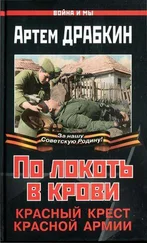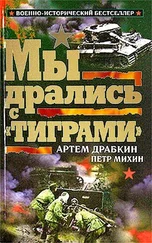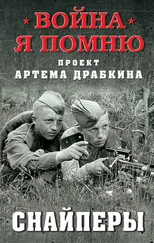И под моим командованием эта группа была выдвинута на западную окраину станицы Суровикино, сейчас город Суровикино. Только мы успели выйти на западную окраину, развернуться в боевой порядок, как вдали показались клубы пыли и группа немцев – несколько мотоциклистов и бронетранспортер с пехотой. Подпустили их метров на 500, мы были еще не обстрелянные, немцев видели первый раз живыми на таком расстоянии, мы открыли огонь из пулеметов, может быть, несколько преждевременно. Но, короче говоря, несколько человек ссадили с мотоциклов, эта группа развернулась и ушла в степь. Этот первый бой воодушевил нас, и не только нас – участников этого боя, а всё училище. Решили, что мы, курсанты, можем бить немцев. А немцы, получив даже небольшой отпор, не приняв боя, моментально ретировались назад. И вот с этих пор начались наши бои с отходом к Дону. Затем между Доном и Волгой, в городе, училище уже в боях не участвовало. Ну это я несколько забежал вперед. В 1941 году сложилась такая сложная обстановка в стране и особенно в Красной армии, что не хватало оружия. Ведь все оружейные склады были на западе, а запад был оккупирован немцами, и практически все склады попали в руки немцев. Поэтому у училища постепенно начали отбирать оружие: винтовки, пулеметы, минометы, пушки, оставляя только минимально необходимое количество вооружения для обучения курсантов, для несения караульной службы. Я служил заместителем командира курсантской пулеметной роты. Так вот вместо девяти пулеметов в роте всего оставили один станковый пулемет максим, один ручной пулемет, пять боевых винтовок для несения караульной службы, пять учебных винтовок для обучения рукопашному бою. Вот всё вооружение, с которым мы прибыли в Суровикино. Правда, там, на станции, небольшую часть вооружения нам дали, но пришлось прибегнуть к такому методу вооружения: я взял человек пять курсантов поздоровее, в основном ростовчан (училище было переброшено с Северной Осетии, поэтому укомплектовано было в большой степени курсантами местных национальностей – грузинами, осетинами, болгарами, дагестанцами, даже был один курд). Вышли на перекресток полевых дорог и начали останавливать небольшие группы бежавших из-под Харькова. Не бежавших, а еле плетущихся, совершенно потерянных солдат, красноармейцев, командиров. Если у них было оружие, то предлагали его сдать нам. Начинались перепалки. Ведь за явку на сборный пункт без оружия могли и расстрелять. Я вырывал лист из учебной тетради, где стояла печать учебного отдела училища. На этих листиках писал расписку, что в таком-то районе у красноармейца такого-то или там лейтенанта такого-то отобран карабин со штыком, винтовка с пятью патронами для вооружения курсантского полка. И многие даже с благодарностью отдавали оружие. Потому что идти 400 километров от Харькова до нашего рубежа, не имея ни питания, ни командования никакого, ни цели, – это тяжело. Все были настолько угнетены и потеряны, что даже с радостью иногда отдавали это оружие. Вплоть до того, что мы однажды отобрали даже повозку с кабелем и телефонными аппаратами, которые нам потом пригодились. Потому что училище как таковое, преобразованное в полк, не имело штаба, практически роль штаба выполнял учебный отдел и строевой отдел училища и отдел кадров. Не было артиллерии. Было две-три пушки для изучения материальной части. Роты связи как таковой не было. Училище располагалось стационарно, пользуясь городской связью. Не было своего медико-санитарного пункта, потому что училище пользовалось гарнизонной поликлиникой. С нами пришло несколько медсестер, в основном жены офицеров. Абсолютно не было тыла. В училище курсантов обслуживали официантки, повара были гражданские, никаких полевых кухонь у нас не было. Было только три стрелковых батальона – по 500 с лишним слабо вооруженных человек. Главным оружием чуть ли не 30 % курсантов была саперная лопата.
Училище самостоятельно не воевало, а, как правило, раздавалось побатальонно, дивизиям первого эшелона 62-й армии. Мы выполняли роль арьергардов отступающих к Дону частей. Нас оставляли, как правило, на широком фронте. Мы целую ночь вели неприцельный огонь, чтобы обозначить рубеж обороны, показать, что оборона жива. А к утру отходили на очередной рубеж под бомбежкой авиации и под нажимом пехоты и танков противника. И так продолжалось почти еженощно и ежедневно. Иногда приходилось отходить буквально по сожженным, может быть, и нашими солдатами, и немцами, созревшим хлебам пшеницы. И вот, когда это всё горело, в этом дыму, пламени, выходили мы буквально как негры – черные от копоти и пыли, в прожженной одежде. Это страшно. Еще страшнее было смотреть старикам, женщинам, детям в глаза, а мы отходили, еще раз повторяю, последние. Прямо говорили: «Сынки, вы нас бросаете на поругание немцам». Эти упреки выслушивать – буквально слезы на глаза наворачивались. Но ничем мы не могли действительно остановить немцев.
Читать дальше