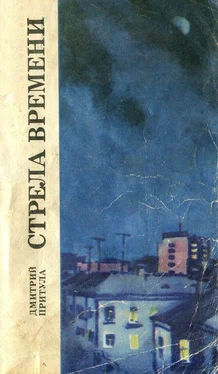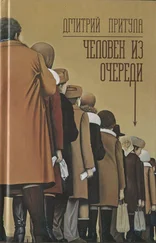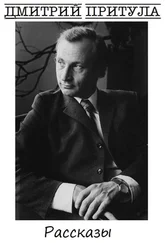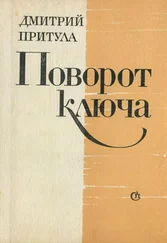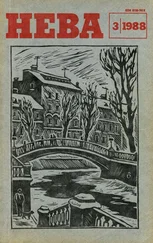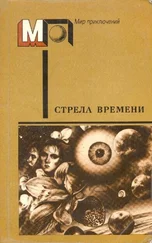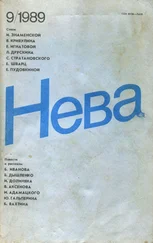Все знали, что главная опасность — это мины: впереди находилось минное поле. И поэтому основная надежда была на впередсмотрящих. Вдоль бортов стояли матросы с шестами, они должны были шестами отталкивать плавающие мины.
Сперва взорвался небольшой катер. Тральщики сняли его экипаж. Потом подорвался тральщик, расчищавший фарватер.
Теперь приходилось рассчитывать только на себя. Но много ли увидишь в темени ноябрьской ночи, да еще когда штормит.
В три часа раздался первый взрыв. Эсминец сильно тряхнуло. Корабль дал крен, в котлах сел пар, остановились дизеля. Повреждение удалось исправить, и корабль смог дать ход, но раздался второй взрыв. Корабль начал оседать, замолкли машины, и тишина отнимала надежды на спасение. Через пробоину поступала вода, затопило третье котельное и первое машинное отделения. Разошлись швы в корпусе, треснула палуба. Через три минуты корабль уже полулежал на левом борту. Опытные моряки, они знали, что теперь спасения нет.
Поняли это и на минном заградителе «Урал». И поспешили к «Гордому». Если бы кораблям удалось сблизиться, то экипаж спасся бы. Но сблизиться не удалось, потому что между кораблями плавала мина, и Ефет приказал командиру «Урала» отойти от борта. «Урал» отвернул в сторону.
Малый охотник взял кого смог, люди прыгали в шлюпки, в воду.
Под кормой «Гордого» раздался новый взрыв, и корабль, окутанный паром, погрузился в воду на глазах спасшихся товарищей.
Те, кто остался в живых, рассказывают, что корабль уходил в воду кормой, что вдруг наступила тишина и была какая-то яркая вспышка вдали. Спасшиеся услышали, что на «Гордом» люди вроде бы поют. Они прислушались — и точно: погибающие пели о том, что именно это и есть их последний и решительный бой…
Командир до конца не покидал мостика…
А Валентина Ивановна ничего этого не знала.
Напомним, что к 8 сентября Ленинград уже был блокирован с суши. Вместе с Ленинградом в блокаде оказался и Ораниенбаум.
Захватив Стрельну и Новый Петергоф и выйдя к финскому заливу, противник, однако, захватить Ораниенбаум не смог. Так образовался Приморский плацдарм, или, как его называли за малые размеры, Ораниенбаумский «пятачок». Он занимал полоску земли, протянувшуюся вдоль берега Финского залива на пятьдесят километров — от Петергофа на востоке до реки Воронки на западе. В глубину эта территория не превышала двадцати пяти километров. У самого же Ораниенбаума немцы были совсем близко. На окраине города, за Красным прудом, еще стоят деревянные домики, так с их крыш видны были позиции немцев, и ветер доносил отдельные выкрики….
«К зиме нас перевели в полуподвал дома, где теперь культмаг. Там мы и жили, и работали при коптилках. Два кабинета — терапевтический и хирургический. Нас было человек десять.
Голод мы почувствовали быстро. Сто двадцать пять граммов хлеба. Да и то бывало, что по нескольку дней кряду карточки не отоваривали. Поначалу я сама ходила за хлебом. Но несколько раз возвращалась в подвал с пустыми руками. Потому что у выхода из магазина мои больные протягивали ко мне руки и бесконечно повторяли: «Доктор, хлеба, доктор, хлеба», и я весь хлеб раскрашивала. Но чтобы я жила и могла работать, приходилось моим товарищам делиться со мной, и потому за хлебом стала ходить моя медсестра.
Меня вызывали к больным, а это были дистрофики чаще всего уже умирающие — иначе, они сами бы пришли ко мне. Тогда ведь каждый понимал — раз ты слег, то встанешь едва ли. Я иду на вызов, да что там иду — ноги еле переставляю, потому что они отечные, одутловатые, и от дистрофии такое чувство, словно идешь ты, не по земле, а по трясине — никогда больше земля не была для меня такой неверной. Бредешь и думаешь — ну что ты можешь сделать? Так бы от отчаяния и плакала все время, но ведь для слез тоже силы нужны. А не идти нельзя — ты врач, и на тебя надеются. И знают, что ты не накормишь, а все-таки надеются. Ну, перевязки сделать мы могли, вата, йод, бинты у нас еще были, а больше — что? Глюкоза, говорите вы? Может, и было несколько ампул в больнице, у нас — не было. А перед входом в квартиру всю оставшуюся волю собираешь, чтоб этот вызов выдержать. Вот паренек шестнадцати лет. Он знает, что умрет, но все-таки вызвал меня, чтоб задать один вопрос: «Доктор, умру ли я?» А у меня ничего нет, кроме стетоскопа. «Что ты, паренек, — я ему, — вот прибавили норму, и скоро еще прибавят, да ты к лету будешь здоровяком, у тебя же кость широкая, а мышцы ты наживешь, ты еще служить будешь, летчиком станешь, уж поверь мне». И ведь где силы найдет, и знает, что я не помощница ему, а улыбнется, повеселеет хоть на время. У меня ничего тогда не было — только доброе слово. И если оно хоть на короткое время помогало, так и то не зря мы мучались в те месяцы.
Читать дальше