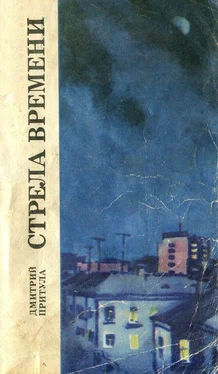— И где же это тебя? — спросил Лукин.
— Да под Варшавой. За год помаленьку привыкаю.
Они прошли в дом.
— Постарели мы за войну, а, Василек? Ты вон тоже матерый мужчина стал. Да и я успел намаяться. Хорошо, хоть голова и ноги целы, а с рукой можно к жизни приспособиться, — говорил дядя Федя, ставя на стол двухлитровую бутыль с зеленоватой влагой, холодную вареную картошку и соль. — Работу взял прежнюю — бригадирствую в полеводстве, тоже надо хозяйство поднимать. Поголодали без нас бабы, жизнь как-либо порезвее налаживать надо. Мы вот сейчас отметим твое возвращение, а в обед Настя прибежит и покормит нас.
— Да у меня времени-то нет ждать. Уж лучше вы вечером к нам приходите, или же мы к вам притопаем.
Дядя Федя удивленно посмотрел на него, а Лукин насторожился — не случилось ли чего дома.
— Как отец? Здоров ли?
— Да вот весной заболел, да, — начал дядя Федя и осекся. — Ну уж я тебе скажу, плотник он, другого нет такого, пятнадцать лет назад вот этот дом отгрохал, и ведь красавец дом. Ты как считаешь?
— Да ты, дядяня, что-то крутишь, — встревожился Лукин. — И это, надо сказать, на тебя непохоже.
— Так ведь то и дело, Вася, что как заболел, так и не поправился, — тяжело выдохнул дядя.
— Как это — не поправился?
— Да так, Вася. Как все люди. Месяц назад, словом говоря, положили его рядом с твоей матушкой. Такую уж новость я тебе преподношу. А он, как ты знаешь, брат мой старший и любимый.
Лукин неподвижно сидел у стола. Он замер, словно бы окаменел.
— Так и не сумел смириться с гибелью сына. Надломилось, видно, в нем что-то. Как похоронку на Петю получил, так начал вянуть и пропадать.
— На Федора, — поправил его Лукин.
— Что — на Федора? — не понял дядя.
— На Федора похоронку, — терпеливо объяснил Лукин.
— Так то ж давно, еще в сорок первом. А это вот этой весной. Уже в Германии, выходит.
— Значит, и Петя, — покачал смиренно головой Лукин.
— А ты не знал?
— Нет, не знал.
— Значит, вот какие новости я тебе преподнес.
— Зачем же я шел сюда?
— Да вот все узнать, выходит. Знать нужно все, Вася. Ну, и отцу с матерью поклониться. И дальше, выходит, жить.
— Как это? Без друзей, без родных? Отец, мать, братья, как без них?
— Ах, Васенька, да что же делать? Ведь вся земля в гибелях. Да ведь как-то следует жить. Уж кто-кто, а я, сам видишь, своего нахлебался. А есть сын Степка. И другие детки бегают, чьи отцы, видать, не придут. Как ты это представляешь? Их кто-либо поднимать должен? То-то ж. Вот мы с тобой для этого и уцелели.
— Я, дядя, пойду, пожалуй, к себе. Да возьму-ка я у тебя эту бутыль, да картошки малость, да и посижу в одиночестве.
— Давай, коли так, — не стал удерживать его дядя Федя. — Может, это и правильно. А я тебя навещу как-нибудь.
— У меня тут, видишь, селедка, так не возьмешь ли?
— Ну, давай, раз дело такое.
Лукин поставил в свой мешок бутыль и положил несколько картофелин.
— Ну бывай, дядя.
— Бывай, Вася. Иди домой, солдат. Живи.
И Лукин пошел к своей деревне. Как-то уж дошел до своего дома. Он стоял на краю деревни, у самого леса, так что никому на глаза показываться не пришлось.
Ставни были закрыты, дверь подперта колышком. Лукин отбросил ногой колышек и вошел в дом.
В доме стоял полумрак, но Лукин не стал открывать ставни, — свет не режет глаза и, следовательно, будет легче перенести одиночество.
Он достал из мешка бутыль, хлеб, картошку, сало, принес стакан, сел у стола и выпил крепкого зеленого зелья.
Потом вынул гармонику и решил потихоньку попиликать, чтоб хоть как-то привыкнуть к тому, что вот теперь он один на белом свете.
Тихо сыграл себе Лукин «Во поле березонька стояла», хлебнул еще зеленой влаги, увидел вдруг на подоконнике белый сверток, догадался, что в нем, пожалуй, письма его и братьев с фронта, и точно — не ошибся — в свертке были письма и фотографии.
В чуть пробивающемся сквозь ставни свете он разглядывал пожелтевшие старые фотографии и новые, в последние годы присланные с фронта.
Вот в траве под кустом лежат танкисты, улыбается брат Петр, руку несет ко лбу, чтоб убрать волосы, смотрит напряженно в фотоаппарат.
Сейчас Лукин не мог снести этот устремленный на него взгляд, и глаза прикрыл, и голову уронил на мехи, и играл безостановочно, чтоб хоть как-то утешить душу. Где ты сейчас, Петя, ведаешь ли ты, что происходит с твоим братом?
А вот на крылечке сидит мама и тетя Надя, умершая еще до войны, а между ними, надув щеки, сидит он, Лукин, ему лет десять, что ли, он сделал руки калачиком, и мама и тетя тянут к себе каждый из калачиков.
Читать дальше