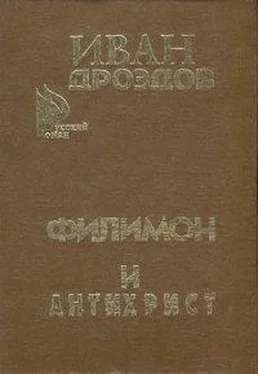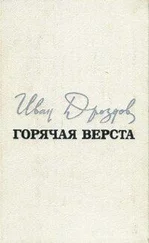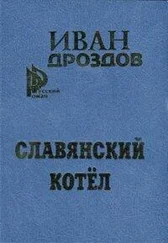За стеной времянки жил брат академика Ефим. Там скрипнула дверь, кто-то вошёл. И тут же раздался хриплый, но явственно слышимый голос Буранова-старшего:
— Оклемался малость — и вновь к тебе. Куда ж мне податься!
— Чего выполз в одной рубахе — роса пала, зябко. Да и приступ был, укол дачи.
— И никакой не приступ. Сердце кольнуло, и у молодых бывает, а они чуть что — крик поднимают. Помолчали с минуту.
И вновь академик:
— В баню ходил к художнику — соседу. Оттаял малость. Художник-то — он по банному делу мастак. Ложись-ка, говорит, на спину, я тебя по левому боку — там, где сердце болит. И ну жарить, ну жарить!.. Разогнал ломоту, — молодец! Надо Зяблику сказать, чтоб картину у него для института купил. Без денег сидит. Художник — одно слово.
— Во-во!.. Нынче картину у него купишь, — поди, завалящую, завтра — хлопотать попросит. Липучий он, твой Почкин! Банным веничком корысть себе из вас, дураков, выколачивает. Тьфу, мерзость! Прежде вроде и людей таких не было.
— Ах, Ефим! Злобствуешь ты! Все у тебя нехороши. Зяблик — плох, и учёные вон, что в бильярд играют, не здороваются с тобой. Теперь вот… Почкин! Ну что тебе в них? Ты их не знаешь, и они тебя. Занимайся садом.
— Оно — так! Да не во мне дело. Хапуг не переношу, сроду их не любил.
Академик хохотнул трескуче, словно щепки рукой перебрал.
Бригада электриков за стеной замерла, лежат — не дышат. Жизнь академика с чёрного хода им открывалась. И сам он — не директор, не учёный с мировым именем, а человек, обыкновенный, простой и даже в чём-то несчастный. Жалкий он в своей старости, в болезнях, в одиночестве своём, и почти в такой же заброшенности, в какой пребывал и его младший брат. Ефим не унимался:
— Дойную корову нашли, — ворчал старик. — Каждый от тебя жирный кусок норовит урвать. Зяблик-то вон как хлопочет; ишь Дарью как строго держит и всех остальных. А тебе, Ляксандр, в останний раз говорю: уйду я от вас. Ссудил бы ты мне пенсию какую от своих щедрот. А?.. Не то худо будет. Зяблика не переношу. Дьявол он жёлтоглазый! Вот косу я наточил — чиркну по шее и делу конец!
Академик зашёлся смехом — с икотцей, с прихлипьем.
— Чиркнешь, говоришь? Идея, братец, ты ему только загодя пригрози. Трусишка он, Зяблик наш. Вот как испугается! И вновь заикал, захлюпал старческим горлом. Успокоившись, сказал:
— Смех — хорошо, он душу чистит.
Братья потом и другие дела обсуждали, о молодых годах вспомнили, отца-матушку добром помянули…
А за стеной лежали на койках и смотрели в темноту изумлёнными глазами невольные слушатели. И каждый о своём думал — примерно о том же: о сложности человеческого бытия, о гримасах и превратностях быстротекущей жизни.
В сущности ничего не произошло в жизни и судьбе трёх ученых за два дня пребывания на даче их шефа, академика. Не было и малейшей размолвки, колких словесных дуэлей, но сработала внутренняя незримая пружина: они вдруг замкнулись, стали меньше разговаривать. Каждый из них как бы неожиданно для себя стал свидетелем некрасивого поступка другого — поступка, который и сам помимо своей воли совершил. И каждому стало гадко.
Пытаясь разобраться в происшедшем, они теперь, лёжа на койках, вспоминали, как всего лишь два дня назад они с чувством радости и той тихой, скрываемой от других гордости, приняли приглашение академика посетить его дачу, — их везли на директорской «Волге», они были тут не однажды, рассчитывали на обыкновенное в таких случаях гостеприимство. И первые часы устройства, знакомства с баней, где им предстояло, как утверждал Зяблик, «руководить бригадой рабочих и кое-что поделать самим», и даже дощатая времянка, назначенная им для ночлега, их не обескуражила, хотя и заронила огорчающее душу недоумение.
Разочарование, досада, враждебное недовольство приходили постепенно, по мере того, как выяснялись затруднительные обстоятельства: рабочие, не сговорившись в цене, ушли, и Зяблик, сделав невинное выражение лица, сказал: «Тут и дела всего-ничего, управимся». Во время обеда ждали приглашения в дом к шумному застолью, а вместо того им принесли еду во времянку. А тут ещё ковёр, лосиная шкура…
Филимонов на что человек покладистый, от мира отрешённый — ни в каких ситуациях не прекращает занятий математикой — и перед начальством всегда человек смирный, безотказный, а и он терзался думой: «Ковры-то, пожалуй, — лишнее, можно бы и отшутиться как-нибудь».
Галкин примолк в своём тёмном углу; он в довершение ко всему, как человек особо впечатлительный, натура поэтическая, «переваривал» ещё и только что слышанный разговор академика с братом, лежал с час, разглядывал силуэты дубовых и берёзовых веников, висевших над ним, находя сходство их тёмных пятен то с муравьиными кучами, то с женскими сарафанами, временами тяжко вздыхал, ворочался с боку на бок, но потом встал, оделся и вышел, оглушительно хлопнув дверью.
Читать дальше