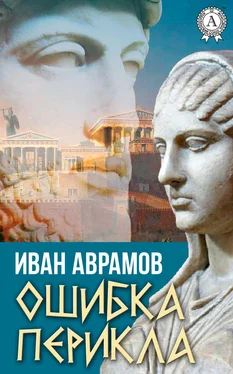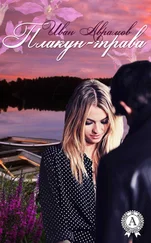— Значит, такова его судьба, — сказал Перикл. — А с судьбой и боги не борются.
— При чем здесь боги? Несчастливым своим уделом наш малыш обязан не кому-нибудь, а родному отцу. О, Олимпиец, почему, ну почему ты решил, что этот закон поспособствует благоденствию не только твоих, но и моих тоже Афин?
Перикл посмотрел туда, где еще минуту назад его сын, как молодой петушок, бросался с кулачками на воспитателя — теперь они о чем-то миролюбиво беседовали, причем больше говорил Исократ, а ученик внимательно слушал его.
— Ах, дорогая Аспасия, никто не может предвидеть будущее. Если ты примеряешь этот закон лично ко мне, — в голосе Перикла послышались шутливые нотки, — то разве я мог предположить, что когда-нибудь встречу прекрасную, необыкновенную милетянку, рожденную в городе, с которым у Афин нет эпигамии? [135] Э п и г а м и я — договор о признании законности брачных союзов.
— И все же — почему ты сделал это?
Перикл задумчиво посмотрел на жену, покачал головой:
— Просто однажды понял, что наша Аттика, где проросло первое пшеничное зерно, [136] Афиняне верили, что это действительно так.
становится похожа на распустившийся цветок, куда слетаются за сладкой пыльцой не только свои, но и чужие пчелы. Афины напоминали мне улей, в который так и ломятся пришельцы. Я понимал их — воздух свободы опьяняет…Но согласись, если так продолжится и впредь, уже и не поймешь, чей он, этот наш улей.
— Тебе это не понравится, но, отказывая метэкам в гражданстве, ты совершил, пожалуй, главную свою ошибку. Разве мало сделали для возвеличивания и процветания Афин те, для кого эта земля стала второй родиной — поэт Продик с Кеоса, живописец Полигнот с Тасоса, философы Протагор из Абдеры, тот же Анаксагор из Клазомен, кому ты стольким обязан, второй твой учитель Зенон из Элеи? Разве не кровь чужеземок текла в жилах великого Фемистокла, твоего извечного соперника Кимона, Мильтиадова сына, славного законодателя Клисфена, которые все же были полноправными афинянами?
Перикл молчал, и лицо его было таким непроницаемым, что Аспасия в который раз подивилась выдержке мужа. «Может, хватит?» — мелькнуло у нее в голове. И все же решила идти до конца — не любила, когда что-то оставалось на душе.
— Однажды я поинтересовалась у Фидия — кто, интересно, возводит Акрополь? Он взял списки: каждый второй — метэк! Каждый, считай, четвертый — раб! А из каждых ста — свободных афинян двадцать пять-двадцать восемь. Причем заметь, Олимпиец, среди чужеземцев не только каменщики, плотники, чеканщики, чернорабочие, а и художники, скульпторы, золотых дел мастера, архитекторы. Наверное, ты понял, к чему я веду. Если начнется война с той же Спартой, Акрополь, да и вся Аттика, будут по-настоящему дороги лишь малой горстке нашего народа. И то — разве эллин будет защищать мидянина со всем рвением? Или египтянин — эллина? Да никогда! Ах, Перикл! Так много, как ты, для Афин не сделал, пожалуй, никто — может, еще Солон. Ты превратил любого афинянина в личность, которой служит государство, а не наоборот. Но в одном ты усовершенствовал Солона далеко не лучшим образом — запретил переступать круг свободных граждан тем, кому Афины стали родным домом. Это твой главный, повторяю, промах, который может аукнуться уже совсем скоро.
— Ты имеешь в виду — если обострится наше противостояние с лакедемонянами? — наконец откликнулся Перикл.
— Да.
Он совсем не обиделся на жену, хотя она говорила ему совсем не лестные для его самолюбия слова. Он любил ее, а любимому человеку прощаешь многое. И, наверное, он чувствовал ее правоту, хотя и не желал признаться в этом. Он вспомнил, как стойко она держалась на суде, с холодным достоинством отвергая все направленные против нее выпады. Обвинения сыпались как горох: вела ученые разговоры с безбожником Анаксагором, приговоренным к смерти, принимала у себя почтенных афинских жен и матерей, которые, забыв о том, что их удел — это порядок в своем доме, и ничто больше, с открытым ртом внимали ее нечестивым речам, наконец, сводничала, поставляя своему другу и покровителю Периклу красивых молодых женщин. Стоя перед обвинителями и судьями, под осуждающими и восхищенными, завистливыми и любопытствующими взглядами бесчисленного множества зрителей, зевак, любителей несомненно острых наслаждений, коими являлись народные судилища, она ни жестом, ни каким-нибудь неосторожным словом не обнаружила — хотя горячность, между прочим, ей была свойственна, что на самом деле творится у нее в душе. Аспасия хладнокровно отбивалась от разъяренных недоброжелателей, среди которых самым язвительным был главный обвинитель — комический поэт Гермипп.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу