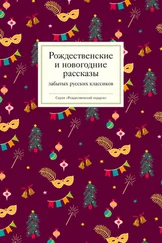Мне тогда стало неловко, что чикагские исполнители новой классической музыки – пускай это и небольшая и закрытая группа людей – знают и любят Уствольскую, тогда как я, специалист по русской культуре, услышала о ней впервые. Нескольких видео на YouTube, которые прислала мне Номи, оказалось достаточно, чтобы я мгновенно согласилась участвовать в проекте. Это случайное столкновение с Уствольской, которая, как выяснилось, продолжала сочинять экспериментальные, формально переусложненные вещи на протяжении 1940–1950‐х годов, навело меня на мысль, что мои коллеги-литературоведы до сих пор не располагают полной картиной художественных методов, практиковавшихся в тот период. На занятиях по русской литературе ХХ века мы зачастую проходим эти десятилетия по касательной, едва разделавшись с утвердившимся в 1930‐х соцреализмом и торопясь поскорее добраться до ярких, многозвучных 1960‐х. Возможно, подумалось мне, в нашем идеологически обусловленном образе культурной пустыни, раскинувшейся посредине столетия, многое упущено из виду. Сколько еще таких аутсайдеров остаются в тени, известные лишь немногим избранным? В какой мере «разархивация» этих художников может изменить карту советского модернизма, а заодно и наше понимание эволюции советской культуры в целом? И в какой мере произведения этих художников могут помочь в переоценке той самой культурной парадигмы, от которой они отклонялись то ли умышленно, то ли по воле случая?
Именно для того, чтобы обсудить эти вопросы, трехдневный музыкальный фестиваль, посвященный Уствольской (октябрь 2017), был дополнен междисциплинарным симпозиумом о художниках, работавших на периферии доминантной культуры. Симпозиум, который мы организовали с Уильямом Никеллом и Мириам Трипальди (оба – из Чикагского университета), был озаглавлен «Found in Time: Forgotten Experiments in Russian Arts of the 1940 s–1960 s», а в сборнике, который вы держите в руках, продолжается обсуждение затронутых на нем тем.
Дискурс-анализ и археологический метод
Традиционный сюжет описывает развитие отношений между художником и советской властью примерно так: после недолгого постреволюционного флирта художественный и политический авангарды решительно разошлись во мнениях касательно смысла самого понятия «революционный». Дабы консолидировать контроль над культурой, в начале 1930‐х власти взялись за искоренение всяческого инакомыслия и разнообразия в художественной сфере, введя единую для всех и обязательную к исполнению доктрину соцреализма. На Первом съезде (1934) свежеобразованного Союза писателей (1932) понятие «соцреализм» было обрисовано лишь в общих чертах: как трехчастный диктат партийности, народности и идейности, укомплектованный парадоксальным призывом изображать действительность в ее революционном развитии. Политическая и культурная оттепель 1950‐х породила робкие попытки ввести в творческую деятельность ранее запрещенные элементы. Оттепель продолжалась относительно недолго, но с ее окончанием новоявленные «отклонения» не исчезли, а переместились в подполье, где начала уже стремительно развиваться сложная система культурного производства и распространения неподцензурного искусства. При этом соцреализм по-прежнему оставался официально санкционированным художественным методом во всех видах искусства фактически до самого распада Советского Союза.
Учреждение соцреалистической доктрины время от времени подкреплялось агрессивными антиформалистскими кампаниями, под «формализмом» подразумевавшими любую авангардную или модернистскую эстетику. По большому счету, переход от авангарда к соцреализму можно охарактеризовать как смещение художественной доминанты с формы на содержание.
Нарратив разрыва в культурных эпистемах не раз подвергался сомнению в академических исследованиях недавнего времени. Что особенно важно, преемственность между авангардом и соцреализмом, пришедшим ему на смену, была обнаружена на уровне содержания. Соцреализм, согласно этому сравнительно новому научному ви́дению, унаследовал от авангарда стремление переосмыслить цели искусства: жизнестроительство, вытеснившее созерцание, изменение статуса искусства по отношению к жизненным практикам, а также модернистскую концепцию тотального произведения искусства [2] См.: Groys B. The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. London: Verso, 2011.
. Однако представление о радикальном разрыве с авангардными формами оставалось, в сущности, незыблемым.
Читать дальше






![Коллектив авторов История - Естественные эксперименты в истории [сборник]](/books/425171/kollektiv-avtorov-istoriya-estestvennye-eksperiment-thumb.webp)