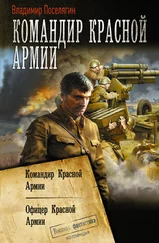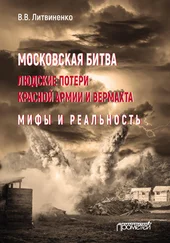Германо-украинский договор значительно усложнил и без того тяжелое положение российской делегации на переговорах в Бресте. Перед этим Троцкий, проводя свою политику «ни войны, ни мира», спровоцировал наступление германских войск по всему фронту. Причем он усугубил дело своей телеграммой главнокомандующему Крыленко, в которой объявил, что война окончена и армия должна быть распущена. Советской делегации ничего не оставалось делать, как принять любые условия немцев. 3 марта 1918 года российская делегация подписала в Брест-Литовске мирный договор между Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией – с другой. По нему Россия обязалась: не претендовать на Прибалтику и часть современной Белоруссии; вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую Народную Республику независимым государством; вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс; принять режим торговли с Германской империей от 1904 года; демобилизовать армию и разоружить флот; прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах. Позже, после убийства германского посла Мирбаха, по дополнительному договору 27 августа, пришлось пойти на денежную компенсацию (контрибуцию). Мир без аннексий и контрибуций, к которому призывала партия большевиков, не получился. Сумма выплат составила 1,5 миллиарда рублей золотом (245 тонн). Советы отправили в Германию только 90 тонн.
Но при этом совершенно очевидно, что вместо мирного договора пришлось бы подписывать капитуляцию, если бы германские войска захватили Петроград. Но они этого сделать не смогли. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться на несколько месяцев назад.
* * *
После Октябрьского переворота и провозглашения советской власти на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Керенский назначил Верховным главнокомандующим русской армии генерал-лейтенанта Николая Николаевича Духонина. Он сообщил войскам о вступлении во временное исполнение должности Главковерха и призвал стоять на позициях, «…дабы не дать противнику воспользоваться смутой, разыгравшейся внутри страны, и еще более углубиться в пределы родной земли».
Поручение Совнаркома начать переговоры с командованием противника о мире Духонин выполнить отказался. За неповиновение он был смещен с должности и объявлен «врагом народа». В своих последних приказах он поручал всеми возможными способами предотвратить оголение фронта и избежать гражданской войны. Для переговоров в Ставку прибыл генерал-майор Сергей Иванович Одинцов. В результате Духонин принял решение не сопротивляться назначению на должность Верховного главнокомандующего прапорщика Крыленко и передать ему дела.
Странное решение о назначении прапорщика на столь высокую военную должность объясняется в воспоминаниях генерал-майора Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. В те дни он служил начальником штаба Северо-Западного фронта. После смещения Духонина именно ему было предложено возглавить Вооруженные Силы молодой республики. Боевой генерал прогрессивных взглядов, брат управляющего делами Совнаркома. Все подходило, но Михаил Дмитриевич отказался от столь высокой должности. Он посчитал, что ее должен занять человек, соответствующий сложившимся условиям. Долго подбирать такого человека было некогда, и назначили военного из большевистской «обоймы». Им оказался прапорщик Финляндского пехотного полка Николай Васильевич Крыленко. А начальником штаба при нем был назначен генерал-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. По сути, он и стал руководителем Вооруженных Сил, хотя и теневым, но реальным. Впоследствии этот принцип кадровой политики применялся постоянно. В армии и на территории национальных окраин.
Приказ отставного генерала Духонина об освобождении арестантов Быховской тюрьмы генералов Корнилова и Деникина стал для него самого роковым. Толпа солдат и матросов требовала выдать его для расправы. Крыленко пытался защитить его, утверждая, что он должен предстать перед революционным судом, но сам чуть не попал «под горячую руку». Генерал Духонин был убит разъяренной толпой.
Однако и оставшимся в живых приходилось непросто, даже на самых высоких должностях. Генералу Бонч-Бруевичу пришлось заниматься ликвидацией того, чему он посвятил всю свою сознательную жизнь. Русская армия стремительно разлагалась. Большевики этому активно способствовали, продолжив разрушительные действия печально известного приказа № 1, предписывавшего во всех воинских частях создать комитеты «из выборных представителей от нижних чинов». После прихода к власти большевики продолжили политику ликвидации старой армии. 30 ноября Военно-революционный комитет при Ставке разослал телеграмму, в которой предписывал всем воинским частям «впредь до разработки и утверждения положения об армии руководствоваться обязательными началами ». Седьмым пунктом этих начал упразднялись все «офицерские чины, звания и ордена» . Сохранялись лишь наименования должностей. Отменялись и все «наружные знаки отличия» (погоны, кокарды и аксельбанты). Такая демократизация была прямым ударом по единоначалию и дисциплине, что для армии смерти подобно.
Читать дальше
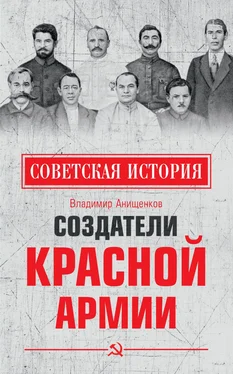
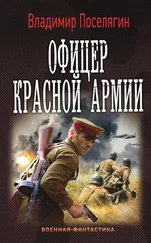
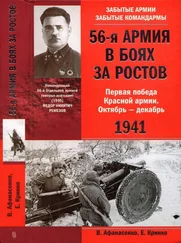
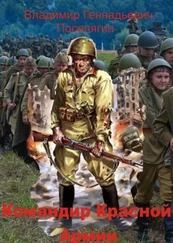
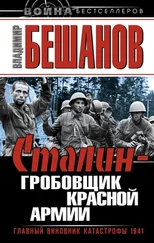
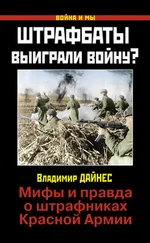
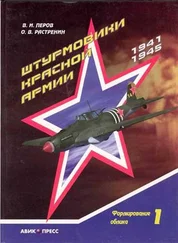
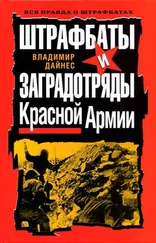
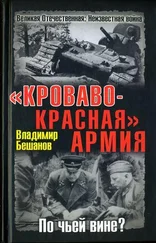
![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии [litres]](/books/428610/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-litres-thumb.webp)
![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии - Командир Красной Армии. Офицер Красной Армии [сборник litres]](/books/430810/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-komandi-thumb.webp)