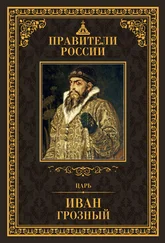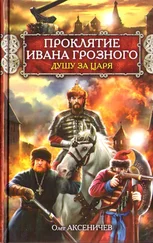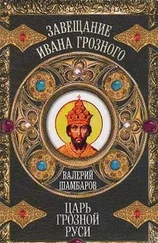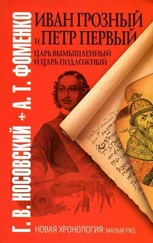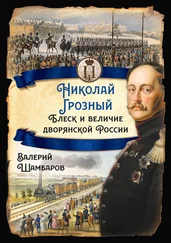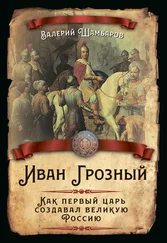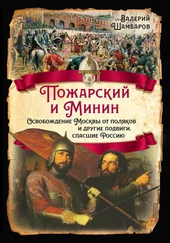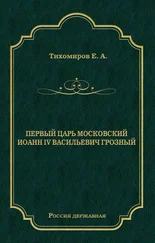Сразу оживился и крымский хан. Налетел захватить город Мценск. Но на южной границе воины всегда были наготове. Татар отбили. А у литовцев и поляков, как обычно, была отвратительная дисциплина. Шляхтичи лихо отплясывали на балах. Хвастались перед дамами, какие они храбрые. Но на фронт ехать не спешили. Знали, что у царя сильная армия. Как бы не попасть под раздачу. У Радзивилла и литовского командующего Ходкевича собрались только жиденькие отряды. Они налетали на русскую территорию, грабили сёла и поскорее убирались обратно.
Царских войск против них собралось гораздо больше. Но русские воеводы действовали из рук вон плохо. Вражеские отряды не перехватывали. В наступление не переходили. Писали царю, что это опасно. Дескать, там их ждут многочисленные литовские рати. Государь сердился, понукал их. Летом 1562 года неприятели опять перешли границу возле города Невеля. Полетел приказ Курбскому – перехватить их! Он повёл большой корпус, 15 тысяч воинов. Врагов оказалось 4 тысячи. Русских было почти в 4 раза больше. Но вместо того, чтобы кинуться в атаку и раздавить литовцев, Курбский почему-то остановился. Начал передвигать свой корпус то туда, то сюда. При этом развернулся боком к противнику. А литовские рыцари сомкнулись, сами понеслись вперёд. Врезались в русское войско и разгромили его. Оно побежало кто куда.
Для Сигизмунда эта победа стала лучшим подарком. О ней раструбили по всей Литве и Польше. Дескать, русские совсем слабые. Не умеют воевать! Шляхтичи, боявшиеся царских войск, ободрились. Хлынули на войну, королевская армия быстро выросла. А Курбский доложил, что храбро рубился, был ранен. Поэтому он не получил никакого наказания. Хотя рана у него была пустяковая (если вообще была). А уже позже выяснилось: перед сражением Курбский посылал к литовцам гонцов с какими-то письмами. Но это открылось только потом…
А Сигизмунд, начиная войну, рассчитывал не только на свои войска. Но и на предателей среди русских. На сейме он объявил, что «много бояр московских, много благородных воевод» недовольны царём. Считают его «тираном и извергом» и будут переходить на нашу сторону. Хотя Иван Васильевич не казнил ещё ни одного знатного преступника, даже заговорщиков. «Тираном и извергом» для бояр он стал только из-за того, что не позволял им хищничать, заставлял слушаться и соблюдать законы. Но литовцы стали забрасывать в русские войска и города свои воззвания. Писали, что Иван Васильевич – «бездушный государь», держит дворян в неволе, они должны только служить царю и России. Манили их переходить к врагам, и они получат такую же «свободу», как польские и литовские шляхтичи.
И начались измены. Перейти к Сигизмунду задумал Иван Бельский. Самый знатный из бояр, он возглавлял Боярскую думу! Он уже приготовился бежать с целым отрядом приближённых. Какой подарок был бы для короля! Враги тут же известили бы русских: видите, глава Боярской думы перешёл к нам! Значит, у нас лучше! Скольких людей это помогло бы соблазнить! Но вовремя узнали. Изменников арестовали. Доказательства были налицо. У Бельского нашли даже документ от Сигизмунда, чтобы его пропустили через границу. По закону за такое полагалась смертная казнь. Однако вдруг выяснилось, что царь… не может наказать знатных предателей!
Бельского могла судить только Боярская дума. А в законах был пункт, что преступника разрешается взять на поруки. Бояре дружно обратились к царю, что берут на поруки Бельского. Иван Васильевич был недоволен, что они заступаются за изменника. Но и законы нарушать не хотел. Сказал – ладно. Если ручаетесь, что он больше не изменит, внесите денежный залог. Назвал огромную сумму, 10 тысяч рублей. Бояр это не остановило. Они набрали 100 своих друзей, родственников. Сбросились по 100 рублей, вот и 10 тысяч. Бельского освободили, он снова возглавил Боярскую думу. Только мелких сообщников, собиравшихся бежать вместе с ним, били кнутом и отправили в ссылки.
А для князя Вишневецкого было уже привычно перекидываться то к одному, то к другому властителю. Сейчас он решил, что у литовцев будет всё же выгоднее. Перешёл обратно к Сигизмунду, выдал ему русские военные секреты, какие знал. Король обласкал его, вернул ему города Канев и Черкассы. Но днепровские казаки разделились. Вишневецкому подчинилась только часть из них. А другие обратились к царю. Сказали, что хотят и дальше служить ему, а не польскому королю. Они вспоминали Сечь на Хортице, ушли за пределы литовской территории и обосновались на Днепре за порогами. Как раз они и стали запорожцами. У них нашёлся новый предводитель, литовский князь Богдан Ружинский. У него с татарами были свои счёты. При набеге была убита его мать, где-то в плену сгинула молодая жена. Он ушёл к казакам. А Иван Васильевич отнёсся к ним с полным доверием. Стал присылать жалованье, боеприпасы, и они продолжили воевать против крымцев.
Читать дальше
![Валерий Шамбаров Иван Грозный. Как первый царь создавал великую Россию [litres] обложка книги](/books/432969/valerij-shambarov-ivan-groznyj-kak-pervyj-car-soz-cover.webp)