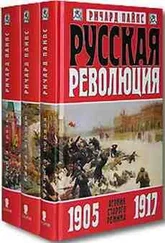Вид крови обезумил христиан. Они стали крушить вокруг себя все: изображения Богов, Весту, золотые треножники, даже черное изображение Крейстоса, которого они касались с брезгливостью, как чего-то нечистого. Началась облава на рабов, их вытаскивали из-за занавесей и ковров и убивали, несмотря на отчаянное сопротивление. Трупы лежали везде: в кубикулах, в перистиле, в таблинуме, – удушенные, со вспоротыми азиатскими кривыми ножами животами! Кровь, пенясь, растекалась по всему дому, обезображивая его изящную архитектуру. В ужасе визжала обезьяна, павлин распушил хвост, утративший блеск, крокодил беспокойно шевелился. Но вот добрались и до животных, убили и их тоже, кровь обезьяны и павлина залила пол, а кровь крокодила окрасила воду бассейна, и его спокойная поверхность казалась кровавой луной.
А к дому уже приближались хризаспиды. Их, забыв всякую осторожность, сопровождали Сэмиас и Атиллия. Они сидели в закрытой лектике, окруженной катафрактариями, и тихо всхлипывали. Сэмиас думала об Атиллий, а Атиллия – о Мадехе; его смерть, казавшаяся ей невероятной, рождала в ней неясное желание также умереть. Чувство глубокой нежности, вытесняя возникавшую жалость к брату, не пожелавшему допустить ее к своему изголовью, обращало ее мысли к Мадеху, изящному, благоухающему, с нежным телом и отзывчивой душой, и она тихо повторяла его имя, а Сэмиас смотрела на нее, открывая в ней черты лица Атиллия, его продолговатый профиль, прямой нос, нервные губы и его странные фиолетовые глаза, озарявшие аметистовым блеском подвижное лицо. Светлейшая госпожа не хотела больше думать о низости своего сына, который, в то время, когда преданные ему люди умирали, прятался в латринах, пачкая там свои златотканные и шелковые одежды, блистающую тиару, свою обувь, украшенную драгоценными металлами, эмалью и слоновой костью, и не имел мужества убить себя золотым кинжалом, ядом или петлей. Если бы Атиллий пожелал императорской власти вместо того, чтобы терять свою мужественность с Мадехом, с какой радостью Сэмиас отрешилась бы от своего сына, имевшего ее пороки без ее энергии: вместе с Атиллием она подавила бы восстание Лагеря, свирепость армии и все оскорбления Рима. И в бешеной страсти своей, неисцелимой страсти, она бросилась в объятия Атиллий, признаваясь ей в безумной и глубокой любви к ее брату, о чем Атиллия догадалась лишь несколько часов тому назад.
– Твоего брата любила я! И я бросалась в объятия мужчин лишь потому, что он отверг меня, он, кому я отдала бы Империю, а не этому сыну, который прячется в грязи дворца.
– И я люблю, люблю Мадеха, и если я следовала за тобой, отдавая свое тело прохожим, быть может, врагам Элагабала, то потому, что Мадех исчез и ни один мужчина не мог мне заменить его.
Их слезы смешивались, они обнимались, Сэмиас в сладкой надежде, что Атиллий будет спасен и бросится в ее объятия, а Атиллия, – смутно надеясь увидеть Мадеха в домике в Каринах, который уже виднелся вдали. А римляне уже выскакивали из дверей домика, надеясь спастись, но их нагоняли хризаспиды и катафрактарии и безжалостно убивали. Когда женщины подъезжали к дому, то их мулы ступали по стонавшим раненым, среди крови, разлитой повсюду, даже в небе, которое казалось красной растерзанной тогой.
Амон проскользнул в ряды хризаспидов, входивших по четыре в ряд, с копьями наперевес, в вестибулум. Янитор был зарезан в своем помещении, и труп его лежал лицом вниз. В атриуме валялись тела рабов, пораженные в затылки или в спины; некоторые, еще живые, придерживая руками внутренности, выпадавшие из распоротого живота, отупевшим взглядом смотрели на хризаспидов. В углу Випсаний и Каринас ожидали их с довольным и презрительным видом. Они убили врага Крейстоса, врага, водворившего в Риме культ жизни, а с ним вместе и его жреца Солнца, ложного христианина. Теперь они могут спокойно умереть, наставленные в вере Аттой, который так основательно доказал им вред, приносимый вере Крейстоса Черным Камнем и последователями Заля, извращавшими его учение. Но сам Атта не появлялся во время этих трагических событий, ловкий интриган, он ушел в сторону, чтобы избежать опасности, а потом надеясь воспользоваться укреплением веры в Крейстоса, если это осуществится. Другие будут убиты, а он будет жить, прекрасно жить во славу Агнца, поднявшись из прозябания паразита, станет уважаемым учителем, благочестивым, мудрым, святым, а, быть может, даже займет место первосвященника на Римском престоле. И, вероятно, перспектива была неосознанно приятна Випсанию и Каринасу, потому что так же бесстрашно, как в Цирке, – где они исповедовали Крейстоса перед двумястами пятьюдесятью тысячами зрителей, – они теперь спокойно подставили грудь золотым копьям преторианцев и умерли, даже не вскрикнув!
Читать дальше