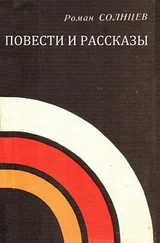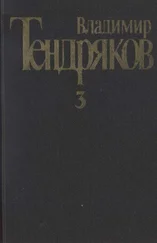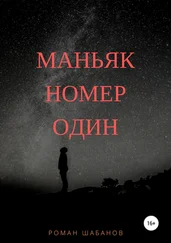Ножницы просвистели. Они срезали первый ряд, пробежались по прямой, сместились на десять градусов, волосы взлетали, как будто ветер был не только на улице, но и здесь, и тут же слепленными полосками падали вниз.
«Ссыч!»
«Хы-хы!»
Два лезвия, превратившие мое утро в кошмар, – когда ничего не можешь сделать. И только терпеть, время замерло, только ножницы, эти две половинки смыкались в противном звуке.
– Глаза не закрывай.
Почему не закрывать?
Зоя Федоровна, видимо, считала, что я слишком мал, чтобы все объяснять. А я и не спорил – я действительно был мал и верил, что взрослые не могут причинить вреда. Верил, по крайней мере старался. Она включила телевизор, где ведущий на рябом экране рассказывал о пользе молока.
– Молоко сейчас не из молока…
Она не смотрела на ножницы, я видел, как ее глаза вцепились в экран. Я следил за ее рукой, и мне показалось, что она движется независимо от парикмахерши. Ее рука, как в фильме ужасов, несла в себе зло.
– Чего они машины понаставили? Сегодня снова не выйдешь. Фаритыч, ты мне жизнь не порть.
Рука двигалась быстро, как будто ее завели, и завод еще не скоро кончится. Ведущий попрощался, и запрыгали буквы начинающейся передачи «Учим итальянский».
– Попробуем, а вдруг меня занесет.
Ножницы шаркнули около уха, немного защемив мочку.
– А! – крикнул я.
– Я тут, – сказала она и продолжила лязгать, кажется, с удвоенной силой.
Зажмурился. Не хочу, не хочу, но должен верить, она же семья почти, но не могу, и с закрытыми глазами хотя бы проще это делать.
– Глаза не закрывай.
Но я уже не слышал, ни это «ссыч!», ни «хы-хы», мне было хорошо, я спасся, единственное, что я видел, – губы, повторяющие быстро-быстро: «Волосыкостюмсумка».
– Волосы? Костюм? Сумка?
Я закрыл глаза, а когда открыл, то увидел мамино лицо…
– Лицо белое. Обморок. Я же говорю: не закрывай. Они все так. Сперва закрывают, давление… только у меня в первый раз так…
Мама шуршала пакетами, волосы были сбиты – она не хочет сделать прическу?
– Не позавтракал, – пожала плечами мама. – Какао надо было выпить.
– Я пил.
– Ты же меня знаешь, – не останавливалась Зоя Ф. Но я уже голосил:
– Аривидерчи, Аванти…
Меня никто не слышит? Все, все.
– Надо закончить, – читаю в глазах. Мама не двигается. Скидываю, спрыгиваю, слышу в ответ: «Нервный какой-то» и мамино: «Нормальный», и я на улице. Сенбернара не было. Я встал на его место. Ждал, пока мама переговорит, заплатит и как-то успокоит Зою Федоровну, уверенную в том, что мой побег ее вина, но почему – все же нормально сидят, пока над ними не встряхнут накидкой и не проведут грубым полотенцем по шее.
Мама!
– Ладно, – радостно провозгласила она, плавно проведя ладонью по голове, словно тестировала мою прическу. – Пойдет.
Если мама сказала, что пойдет, то… действительно пойдет. А может быть, поняла, что ее знакомая не прежняя Зоя Ф., почти семья, а совсем не семья и даже больше – мстит за что-то. Через меня. Может быть, они однажды с мамой что-то или кого-то не поделили. Мама забыла, а вот парикмахерша помнит. Хорошо, что я помог ей в этом разобраться. И пусть у меня не все срезано и уложено, зато мы ушли.
Красный глаз. Стоим. Троллейбус замер на повороте, прогнувшись в косую дугу… Реклама «Доширака» уговаривала есть и улыбаться всей семьей.
– Кто ест доширак, тот заработает рак, – проворчал прохожий с синими ушами.
Меня била дрожь.
– Да что с тобой?
– Н-не з-на-ю-ю.
Мне было холодно. Ветер не был таким ледяным, но дрожь другая. Как при гриппе.
– Скажи: «Ножницы».
– Почему ножницы?
– Нормально… вот и порядок… Домой обедать. А вечером нас тетя Лара позвала.
– А костюм?
– Костюм я тебе тоже купила. И сумку.
Конечно, он на мне висел. Сестра жеманничала, по-обезьяньи ходила по коридору. Как же она ждала этого дня: мне покупали обновку, чтобы Жанка могла поообезьяничать.
– Лохнесское чудовище.
– Ничего, подошьем, – успокаивала мама. Не буду же я тебе каждый год новый покупать.
Причина… Для мамы она была веской. Отец работал сдельно. Судил кого-то. Приходил и прятался за газетой. Мама часто искала возможность найти его, чтобы робко спросить: «У тебя не будет..?». Громко кашлял и делал вид, что не слышал просьбы. Хотя мама все равно его подлавливала, когда тот шнуровал ботинки.
Только разве эта дылда поймет? Дылда – это Жанна. Жанна – это и дылда, и градусник, и переворот сознания, и «потомушта», и «ненра». Ей не нравилось, как я здороваюсь, как хожу, что ношу, как говорю. Но если бы только я был объектом… Ими были и мама, и папа, и любой, кто назывался ее другом.
Читать дальше