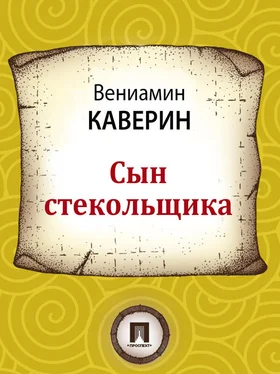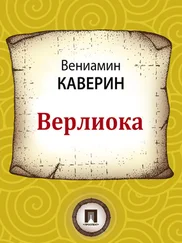Между тем едва только Сын Стекольщика громким внятным голосом произнес стихи нищего поэта, как подле продуктовой лавочки появилась красивая молодая женщина, бежавшая за горчицей. К счастью, у продавщицы, совсем молоденькой девушки, было тренированное сердце, иначе, пожалуй, она упала бы в обморок, увидев Марию Павловну, которую так долго искали и не нашли лучшие собаки-ищейки.
Но сама Мария Павловна вела себя, как будто ничего не случилось. Она купила баночку горчицы, побежала домой и, войдя в столовую, сказала как ни и чем не бывало:
– Танечка, я, кажется, немного задержалась. Наверно, сосиски остыли. Подогрей, пожалуйста, а я пока заварю чай.
Теперь у Сына Стекольщика осталось еще одно маленькое дело, то самое, о котором он сказал: «Ну, это несложно».
И действительно, через несколько дней, когда немухинцы немного привыкли к тому, что Мария Павловна вновь стала работать в Институте Красоты, Председатель Исполкома и Завнемухстрой одновременно проснулись с одной и той же мыслью: «Пекарня».
«В самом деле, – одновременно решили они, – непростительно так небрежно относиться к строительству Пекарни, в то время как люди с нетерпением ждут появления домашнего черного хлеба с вкусной хрустящей корочкой, которым с незапамятных времен славился наш город».
Весьма возможно, что эту мысль внушил им один из посетителей, которого действительно невозможно было заметить. Так или иначе, к удивлению Николая Андреевича, в тот же день к строившейся Пекарне стали стремительно подлетать машины – одна с цементом, вторая с кирпичом, третья с готовыми стенами, в которые были вставлены незастекленные рамы, четвертая снова с цементом. Рабочие, среди которых были настоящие мастера, взялись за дело с такой энергией, что в некоторых бригадах был отменен перекур.
Пекарня начала расти как снежный ком, хотя она, разумеется, ничем не напоминала снежный ком и даже обещала стать одним из самых красивых немухинских зданий. Верхолазы легко взлетали на трубу, и Николаю Андреевичу не приходилось беспокоиться за них, потому что многие из них были мастерами спорта, привыкшими летать над своими снарядами.
Словом, работа, что называется, кипела, и Николай Андреевич по рассеянности даже не заметил, кто и когда вставил в рамы такие прозрачные стекла, что плотники разбили одно из них, думая, что рама, через которую они поднимали доски на второй этаж, осталась незастекленной.
И вот наконец наступила торжественная минута: уютно устроившись на ленте конвейера, одна буханка за другой поплыли, как черные лебеди, в строгом порядке. Они мягко падали в корзины, которые на другом конвейере удалялись в кладовые, выложенные, как, впрочем, и вся Пекарня, голубой плиткой – голубой потому, что это цвет мечты и надежды.
Потом конвейер был остановлен, и наступила еще более торжественная минута, когда решительно всем пришлось волей-неволей затаить дыхание, а некоторые даже приложили руку к груди. Гроссмейстер по выпечке хлеба, приехавший из столицы, еще молодой, но уже успевший прославиться, с закрытыми глазами, чтобы показать, что он не выбирает, взял одну из буханок, разломил ее – и корочка не только разломилась с нежным, хрустящим звуком, но зазвенела, как серебряный колокольчик. Гроссмейстер положил ее в рот, и наступило молчание, мертвое молчание, которое продолжалось все время, пока он жевал ее, катал во рту, причмокивал и, наконец, проглотил.
– Ну, как? – хором спросили немухинцы.
Молодое, серьезное лицо Гроссмейстера стало еще серьезнее, но глаза радостно засмеялись.
– Примите мои самые сердечные поздравления, дорогие друзья, – сказал он, – корочка хрустит, и можно с уверенностью сказать, что на свете едва ли найдется более вкусный, более нежный и, я бы даже сказал, более представительный хлеб.
Вот теперь, с хрустящей корочкой во рту, можно, пожалуй, закончить эту историю. Но тогда пришлось бы обидеть Сына Стекольщика и Таню, потому что у них был еще один разговор, который заслуживает упоминания.
Им следующий день после торжественного банкета который был устроен в честь Николая Андреевичи и других строителей Пекарни, Таня вновь пошла и оранжерею. Просто она надеялась… Впрочем, не все ли равно, на что она надеялась? Может быть, ей хотелось проститься с кем-нибудь или сыграть кому-нибудь сонату, которую она на днях разучила?
Музыку трудно выразить в словах, на то она и музыка, а не поэзия или проза. Но если бы музыкальные фразы этой сонаты стали фразами человеческой речи, они говорили бы о том, чего ей хочется… Нет, не увидеть Сына Стекольщика, ведь это было невозможно! Просто поблагодарить за все, что он сделал для нее и папы, а в особенности для мамы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу