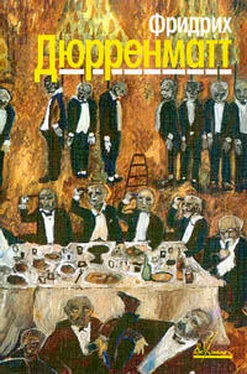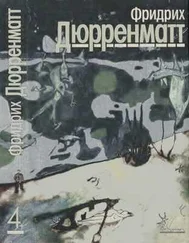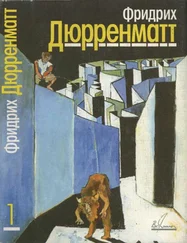Вот так Берлах и лежал в ожидании смерти. Время уходило, стрелки часов двигались, сходились, расходились, снова встречались и расставались. Половина первого, час дня, пять минут второго, без двадцати два, два, десять минут третьего, полтретьего. Все в этом помещении, мертвой комнате без теней и с голубоватой подсветкой, оставалось таким, как прежде: шкафы со старинными инструментами за стеклом, в которых смутно отражались лицо и руки Берлаха. Все было на месте — белый операционный стол, картина Дюрера с мощным конем, остановившимся на скаку, металлическое покрытие на окнах, стул с обращенной в сторону постели старика спинкой, ничего одушевленного, кроме механического тиканья часов. Вот уже три часа, четыре. Ни шума, ни стонов, ни разговоров, ни вскриков, ни звуков шагов за дверью не доносилось до слуха старика, неподвижно лежавшего на металлической каталке. И только грудь его слегка поднималась и опускалась. Для него не существовало больше никакого окружающего мира, ни вращающейся вокруг своей оси Земли, ни Солнца, ни города. Не было ничего, кроме круглого зеленоватого диска со стрелками, менявшими свое положение, настигавшими одна другую, совпадающими и стремящимися разбежаться. Вот уже половина пятого, без двадцати пяти пять, без тринадцати пять, пять часов, пять часов одна минута, пять часов три минуты, пять часов четыре минуты, пять часов шесть минут. Берлаху с трудом удалось приподнять туловище. Пробило один, два, три раза. Он ждал. Вдруг удастся еще переговорить с сестрой Клэри. Вдруг случай спасет его. Медленно повернулся всем телом — и упал на пол. Он долго лежал на красном ковре перед кроватью, а где-то над ним поверх стеклянного шкафа висели и тикали часы, двигалась минутная стрелка: без тринадцати шесть, без двенадцати шесть, без одиннадцати. Потом он, подтягиваясь на руках, медленно пополз к двери, добрался до нее, попытался встать, схватившись за дверную ручку, но упал, полежал немного и повторил эту попытку, затем в третий, в четвертый, в пятый раз. Тщетно. Он начал царапать дверь, потому что бить по ней кулаком был не в силах. «Словно крыса», — подумал он о себе. Некоторое время он лежал неподвижно, а потом пополз обратно к постели. Приподняв голову, взглянул на часы. Десять минут седьмого.
— Еще пятьдесят минут, — громко и отчетливо проговорил он в тишине комнаты и сам испугался. — Еще пятьдесят минут.
Ему хотелось лечь на каталку, но он чувствовал, что для этого у него нет сил. И он лежал у операционного стола и ждал. Он был в плену у этой комнаты с ее шкафами, скальпелями, постелью, стулом и часами, этими самыми часами, сгоревшим солнцем в голубоватом опустошенном мирозданье, тикающим божком и тикающим лицом без рта, без глаз и носа с двумя складками, которые все больше сходились и наконец совпали — без двадцати пяти семь, без двадцати двух семь, — они как бы не хотели, но все-таки вынуждены были расстаться… без двадцати одной минуты семь, без двадцати семь, без девятнадцати минут семь. Время утекало все дальше и дальше с тихим содроганьем неподкупного механизма времени, этого неподвижного висящего на стене магнита. Без десяти семь. Берлаху удалось сесть, прислонившись туловищем к ножке операционного стола. «Старый сидящий больной человек, одинокий и беспомощный человек, вот я кто», — подумал он. Комиссар успокоился. За спиной у него часы, а перед глазами двери, на которые он глядел покорно и униженно. В этот четырехугольный проем он и войдет — тот, кого он дожидается, тот, кто его убьет, медленно орудуя скальпелем, делая надрез за надрезом с четкостью заведенного часового механизма. Он сидел, не делая попытки пошевелиться. Теперь время переместилось в него, и тиканье часов тоже, теперь незачем было больше оглядываться назад, он знал, что ждать осталось еще четыре минуты, еще три, а теперь две: он начал считать секунды, ставшие одним целым с биеньем его сердца, — еще сто, еще шестьдесят, еще тридцать секунд. Он отсчитывал их, беззвучно шевеля побелевшими бескровными губами, и, превратившись в одушевленные часы, не сводил глаз с двери, которая открылась ровно в семь с первым ударом часов. Перед ним словно разверзся черный ад, его зияющая пасть, и в самой середине ее он скорее угадал, чем увидел, размытую и темную фигуру огромного роста человека, но это был не Эмменбергер, которого старик рассчитывал увидеть на пороге; из широко открытой глотки этого человека до слуха комиссара донеслись язвительные и хриплые слова детской песенки:
Читать дальше