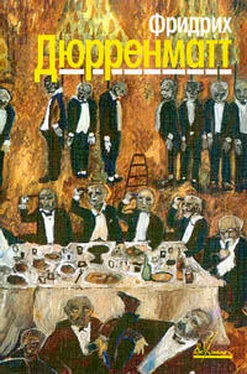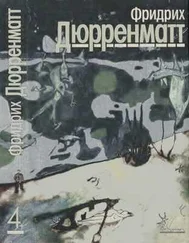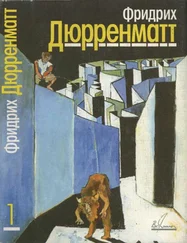— Я напишу. И еду в Париж, — заверил его писатель, крепко сжимая в руке лист бумаги, который дал ему старик.
Он совершенно преобразился, этот человек, и от радости пританцовывал на месте.
— О вашей поездке никто не должен знать, — повелительно проговорил Берлах.
— Никто! Ни одна живая душа! — заверил его Фортшиг.
— Сколько будет стоить выпуск такого номера? — спросил старик.
— Четыреста франков, — потребовал человек, и от мысли, что он хоть немного приведет свои дела в порядок, глаза его заблестели.
Комиссар кивнул.
— Эти деньги вы тоже получите у моего доброго друга Бутца. Если вы поспешите, он выдаст вам их еще сегодня, я с ним созвонился. Вы уедете, как только выйдет номер? — переспросил он, преисполненный своим неистребимым недоверием.
— Немедленно! — поклялся маленький человечек, подняв вверх три пальца. — Той же ночью. В Париж!
Однако старик не успокоился и после ухода Фортшига. Писатель показался ему даже более ненадежным человеком, чем прежде. Он подумал, не попросить ли Лутца понаблюдать за Фортшигом.
— Глупости, — проговорил он вслух. — Они меня уволили. Дело Эмменбергера я веду на свой страх и риск. Фортшиг статью против Эмменбергера напишет, а раз он после этого уедет, бояться мне нечего. И даже Хунгертобелю об этом знать необязательно. Пора бы ему прийти. Мне бы не помешала сейчас сигара «Литтл-Роз».
Итак, в пятницу, поздним вечером — это был последний день старого года, — комиссара, ноги которого покоились на высоких подушках, повезли на машине в Цюрих. За рулем был сам Хунгертобель, который, заботясь о здоровье друга, вел машину осторожнее обычного. Весь город так и переливался в сиянии гирлянд разноцветных лампочек. Хунгертобель оказался в одной из плотных колонн автомобилей, со всех сторон тянувшихся к этому пестрому мареву, а потом расползавшихся по боковым улицам и переулкам, где они раскрывали свои чрева и выдавливали из себя мужчин и женщин, жаждущих отпраздновать эту ночь, венчающую конец года, и готовых вступить в новый и жить в нем дальше. Старик неподвижно сидел на заднем сиденье, укрывшись в темноте этого маленького помещения на колесах с крутой крышей. Он попросил Хунгертобеля ехать не самым ближним путем. И все время наблюдал за неутомимой людской суетой. Город Цюрих обычно его особых симпатий не вызывал; четыреста тысяч швейцарцев на одном клочке земли — это все-таки немного чересчур; Банхофштрассе, по которой они теперь ехали, он ненавидел, однако сейчас, во время этого таинственного путешествия к неизвестной, но грозной цели (во время путешествия в поисках реальности, как он сказал Хунгертобелю), город его восхитил. С темного беззвездного неба пошел дождь, потом посыпал снег, и, наконец, опять пролились дождевые струи, казавшиеся на свету серебристыми лентами. Люди, люди! Все новые и новые группы людей появлялись на обеих сторонах улицы и тянулись куда-то, сквозь пелену дождя и снега. Трамваи были переполнены, из-за окон лица пассажиров и их руки с раскрытыми газетами казались нечеткими, размытыми, и все это уносилось куда-то и пропадало в фантастическом серебристом свете. Впервые со времени своей болезни Берлах почувствовал себя человеком, время которого ушло и который проиграл свою битву со смертью, эту неотвратимую битву. Причина, по которой его неумолимо тянуло в Цюрих, — это с непреклонной энергией выстроенное, хотя и совершенно случайно всплывшее в воображении больного подозрение — оно показалось ему вдруг ничтожным и пустым,» к чему стараться и мучиться, зачем и во имя чего? Ему захотелось забыться, долго и без всяких сновидений. Хунгертобель выругался про себя: он спиной ощутил сомнения старика и корил себя за то, что не воспрепятствовал этой авантюре. Поверхность застывшего озера, имевшего неопределенные очертания, медленно наплывала на них в ночи — машина медленно катила по мосту. Возникла фигура уличного регулировщика, автомата, механически вскидывающего руки и передвигающего ногами. Берлах мимоходом вспомнил Фортшига (этого злосчастного Фортшига, который сейчас в Берне, в своей грязной мансарде, дрожащей рукой строчит памфлет), а потом и эта мысль исчезла. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Им все больше овладевала тягостная, необъяснимая усталость.
«Люди умирают, — думал он, — когда-нибудь умирают все, в каком-то году, как однажды умирают города, народы и континенты. Да, они подыхают, — продолжал размышлять он, — подыхают — вот подходящее слово; а Земля продолжает вертеться вокруг Солнца, все по тому же постоянному, едва заметно искривленному пути, тупо и неумолимо, и бег ее всегда остается бешеным и тихим — во все времена, во все времена. Какая разница, жив этот город или все в нем — и дома, и башни, и фонари, и людей — придавило серым, влажным и безжизненным покрывалом. А вдруг, проезжая по мосту в темноте, в дождь и в снег, я видел перед собой перекатывающиеся свинцовые воды Мертвого моря?»
Читать дальше