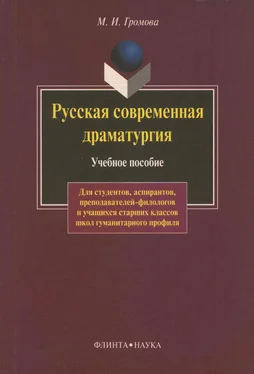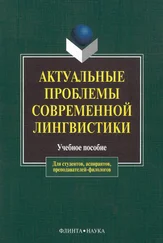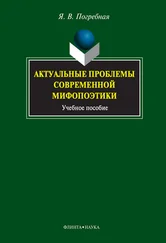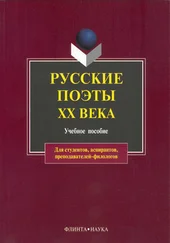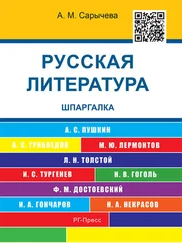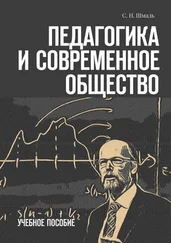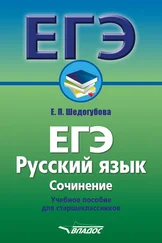Лучшие пьесы застойного времени вполне заслуживают определения «современная драматургия». Злободневность их очевидна и сегодня, а художественные достоинства их продолжают быть предметом литературоведческих исследований.
Во второй части книги – «Русская драма на современном этапе (80—90-е годы)» – основное внимание уделяется процессам, происходящим в театре и драматургии «перестроечного» периода.
Когда речь заходит о современной драме, неизменно возникает вопрос: а существует ли она вообще? И если существует, то где? Действительно, на театральных афишах сегодня, как правило, два-три современных отечественных имени, а остальное – русская классика или зарубежные «абсурдисты» и «парадоксалисты»… Не отсутствием ли современных пьес объясняется «тиражирование» спектаклей по пьесам Чехова (в репертуаре московских театров значатся одновременно несколько «Чаек» и «Вишневых садов» и далеко не все из них являются «новым прочтением», «сенсационным открытием») и очевидное пристрастие к драматургии Э. Ионеско, С. Беккета, С. Мрожека, Т. Уильямса, У. Гибсона, Т. Стоппарда, Э. Олби, А. Миллера и др.? Ведущие режиссеры не скрывают, что в их ближайших планах – опять-таки Чехов, Достоевский, Гоголь… В ответах на анкету «Как поживаете, режиссер?», предложенную журналом «Театральная жизнь», не был назван ни один современный драматург. Почитать современную пьесу негде. Главный театральный журнал «Театр» закрылся, не вписавшись в рыночные условия; интересно задуманный альманах «Драматург» переживает сейчас не лучшие времена. Пока держится «Современная драматургия». Издавать собственные сборники большинству драматургов не по карману. «По всему поэтому» так называемый массовый читатель и зритель мало или почти ничего не знает об истинном положении дел с современной драмой. Не способствуют знакомству с сегодняшней драматургией и некоторые критики, часто высокомерно отмахивающиеся от новых имен и пьес.
Однако новая драматургия существует и все более активно заявляет о себе на театральной сцене: это Н. Коляда, М. Арбатова, В. Гуркин, В. Малягин, М. Угаров, Е. Гремина, А. Слаповский, О. Ернев, А. Шипенко, Н. Птушкина, А. Железцов и мн. др. Далеко не все из них москвичи И петербуржцы. География рождения новой русской драматургии очень широка, а художественный облик ее чрезвычайно многообразен и интересен для исследователя.
Выделение в книге двух хронологических периодов чисто условно, как любая историко-литературная периодизация. Делить на «отрезки» литературный процесс столь же безнадежно, как и речной поток. В настоящее время многое «перетекает» из предыдущего. В современной драматургии «задействованы» писатели разных поколений: может быть, не столь активно, как прежде, но выступают с новыми пьесами В. Розов, Л. Зорин, А. Володин, А. Гельман, Э. Радзинский, И. Друцэ; несколько «поутихла» плеяда «новой волны», находя в современном искусстве другие «ниши»; пробиваются к театральной сцене молодые. Конечно, есть в творчестве драматургов второй половины 80—90-х годов и специфические черты, связанные не только с творческой индивидуальностью, но и с новой культурной ситуацией после перестройки. Обо всем этом и идет речь во второй части книги.
Эмпирический подход к исследованию живого, «дымящегося» материала за два с лишним десятилетия, разумеется, исключает установление истины в конечной инстанции, однако наталкивает на размышления по поводу происходящих в современной драматургии процессов.
Часть I. Русская драматургия накануне перестройки
Глава 1. Публицистическое начало в драматургии 70-80-х годов
На протяжении всей истории советской драматургии ее преследовало, как правило, одно главное обвинение со стороны критики: «отставание от жизни». Драматургия 70—80-х годов меньше всего заслуживает этого упрека. Более того, одно из ее общепризнанных достоинств в том, что она смело «Заглядывает в будущее, вступая на стезю футурологии, философских этюдов или социологической драмы. Но, главное, всегда откликается на актуальные, животрепещущие события и проблемы жизни и общества» [1]. Г. Боровик, утверждавший с трибуны VIII съезда писателей, что советская драматургия первой из литературных жанров откликнулась на необходимость нравственной и экономической перестройки нашей жизни, имел в виду прежде всего пьесы 70—80-х годов с ярко выраженной публицистической интонацией.
Публицистичность, как острая злободневность, открытость и страстность авторского голоса, в застойные 70—80-е годы становится неотъемлемой чертой искусства, его новым качеством. Об этом шла речь в полемике «Начинается с публицистики» на страницах «Литературной газеты» в самом начале 1986 г. Открывая дискуссию, критик В. Соколов утверждал как примету обновления всех литературных жанров стремление писателей «перевести эмоциональный подтекст предыдущего творчества в прямые программные обобщения», иллюстрируя это положение такими произведениями, как «Пожар» В. Распутина, «Имитатор» С. Есина, «Фуку!» Е. Евтушенко и пьесы А. Гельмана. «В лучшем из нынешней публицистики, – писал он, – два крыла: новое прочтение драматургии фактов, помноженное на новую, более глубокую и последовательную философию истории… Два слова – выбор и память… – доминируют, когда литература поворачивается к такому пониманию своей миссии» [2].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу