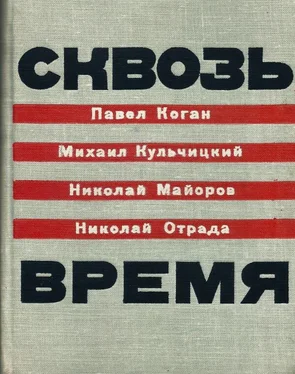Истребительный батальон в начале октября 1941 года был распущен, и студенты, в том числе и Михаил Кульчицкий, снова приступили к занятиям.
Кульчицкий был на последнем, четвертом курсе, но слушать лекции о литературе, когда враг был на подступах к Москве, ему казалось невозможным.
Сначала он едет во фронтовую газету, но это кажется ему недостаточным. Он поступает в пехотно-минометное училище в Хлебникове, чтобы приобрести военную специальность и участвовать в боях самому.
Стихов он в это время почти не писал. Начал писать прозу. Пока это были дневники, заготовки, как когда-то были заготовки стихотворных строчек. Он собирался писать книгу. Она должна была называться «Тайный фронт, или Человек внутри себя».
Однажды он сказал мне:
— Давай писать вместе. Книга будет в форме дневника. Параллельно на одной странице будет дневник ЕГО и дневник ЕЕ. Фронт и тыл.
Фоном должны были быть события на фронтах, и мы делали выписки из сводок Совинформбюро.
В середине декабря 1942 года Михаил Кульчицкий окончил училище в звании младшего лейтенанта и ждал назначения. Дали небольшой отпуск. Новый, 1943 год мы должны были встречать у Лили Юрьевны Брик, но 26 декабря утром Миша появился в Литинституте.
— Сегодня нас отправляют на фронт.
Этим днем помечены строки Кульчицкого:
…На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.
Так он и стоит, перед глазами — огромный, в погонами, похожий на богатыря, и кажется, все пули должны миновать его.
Давид Самойлов
«Перебирая наши даты…»
Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом.
А гуманизм не только термин,
К тому же, говорят, — абстрактный.
Я обращаюсь вновь к потерям,
Они трудны и безвозвратны.
Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.
И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету…
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет и эха нету.
А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая.
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Михаил Львов
Николай Майоров
1947 году в вестибюле МГУ я увидел рослого, с открытым лицом, с развевающимися волосами студента и вздрогнул: он был очень похож на Колю Майорова. Сходство это длилось только мгновенье. Пронзила мысль: невозвратные есть потери. Невозможно возвратить человека из земли. И только образ его остается, вечно живой, в нашей душе. Я не видел Колю Майорова мертвым. Только знаю рассудком, что он погиб, а сердцем представить не могу его неживым.
Он таким и остался в моей памяти — высокий, сильный, добрый, со зрением, я бы сказал, цветным. Как цветное кино. Он густо воспринимал жизнь, мир в его стихах вставал объемным, весомым, зримым, цветным. Остались от него недописанные поэмы, стихи, строки, осколки таланта. Но и сейчас неподдельной юностью и свежестью восприятия мира веет от этих стихов. До сих пор я люблю повторять его живые строки:
Что услышишь в ночь такую?
То ли влага бьет в суку,
То ль тетерева токуют
В ночь такую на току.
И многие, многие строки, живые, молодые, с языческим восприятием жизни, остались от Коли Майорова.
Говорят, что в 1914 году в первые недели войны во Франции погибло 300 поэтов. Триста поэтов! Это не укладывается в сознании! А сколько поэтов унесла вторая мировая! Блистательно начинали свой поэтический путь Коля Майоров, Миша Кульчицкий, Павел Коган, Коля Отрада, Арон Копштейн. Все, что осталось от них, дорого до боли. В них черты нашей юности, облик наших друзей, погибших на войне, но живущих в наших сердцах.
От Коли Майорова осталось много стихов. Мы должны напечатать все его лучшее. Это будет нашей признательностью, признательностью живых тем, кто своей жизнью отстоял жизнь для всех.

Я полюбил весомые слова,
просторный август, бабочку на раме
и сон в саду, где падает трава
к моим ногам неровными рядами.
Лежать в траве желтеющей у вишен,
у низких яблонь, где-то у воды,
смотреть в листву прозрачную
и слышать,
как рядом глухо падают плоды.
Не потому ль, что тени не хватало,
казалось мне, вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
во рту иссохло. Губы как зола.
Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок,
пока трава на солнце не сгорела,
войти в него всем телом до предела
и ощутить подошвами песок!
И в первый раз почувствовать так близко
прохладное спасительное дно.
Вот так, храня стремление одно,
вползают в землю щупальцами корни,
питая щедро алчные плоды
(а жизнь идет!), — все глубже и упорней
стремление пробиться до воды,
до тех границ соседнего оврага,
где в изобилье, с запахами вин,
как древний сок, живительная влага
ключами бьет из почвенных глубин.
Полдневный зной под яблонями тает
на сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
из первозданной матери — воды.
Читать дальше