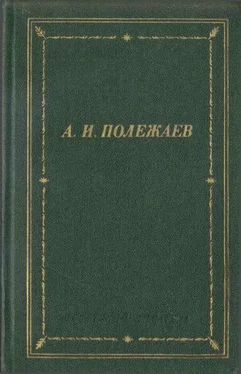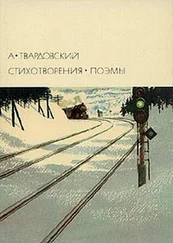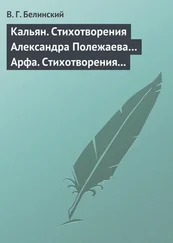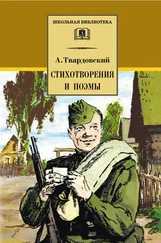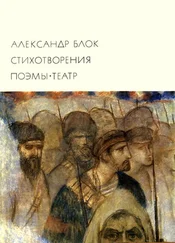В 1829 г. полк, в котором служил П., был переведен на Кавказ, где поэт провел четыре года. Он участвовал во многих, сражениях, и за проявленную в них доблесть ему вернули унтер-офицерский чин. Но все попытки добиться производства П. в офицеры и тем самым дать ему возможность уйти в отставку сталкивались с упорным сопротивлением властей. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что имя П. как жертвы царского произвола пользовалось большой популярностью в оппозиционно настроенных кругах русского общества. Шпионы III отделения доставляли властям неопубликованные произведения П., которые могли только укрепить враждебное отношение к нему. А. И. Герцен, который познакомился с П. в 1833 г., писал: "...Сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца" (Герцен А. И. Собр. соч.-- Т. VIII.-- С. 168).
Кавказские впечатления отразились в поэмах "Эрпели" (1830), "Чир-Юрт" (1832) и ряде небольших стихотворений. В центре внимания поэта не красота горных пейзажей, а быт и тяжелая жизнь простых людей. Он с реалистической достоверностью описывает опасности, лишения, бытовую неустроенность, которые постоянно должен был сносить русский солдат. Жизнь, изображаемая здесь П., увидена глазами солдата, и рассказано о ней безыскусным солдатским языком, с постоянным использованием просторечия и разговорных оборотов. Отдавая должное мужеству и русских и горцев, П. видит бессмысленность войны и кровопролития. Он проклинает того, кто извлек "первый меч войны / На те блаженные страны, / Где жил народ миролюбивый", и верит, что придет пора, когда "воинственная лира" "забудет битвы и перун / И воспоет отраду мира" (Стихотворения и поэмы.-- С. 293, 309). Темой поэм П. "Видение Брута" (1833) и "Кориолан" (1834) явились события римской истории. Продолжая традиции декабристов, поэт стремился не к исторической достоверности и точности, а к тому, чтобы на материале прошлого поставить вопросы, актуальные для его времени.
Читатель 30 гг. безошибочно улавливал в "Кориолане" намеки на поражение декабристов и деспотизм николаевского царствования. Уловила их и цензура, запретившая к печатанию обширные куски "Кориолана", впервые опубликованного в 1838 г., уже после смерти автора. Важной частью поэтического наследия П. являются его песни. "Ахалук" (1832), "Сарафанчик" (1834), "Долго ль вам без умолку идти" (1835), "Разлюби меня, покинь меня" (1836) и др. произведения этого жанра завоевали популярность и прочно вошли в песенный репертуар. П. проявлял углубленный и постоянный интерес к фольклору: и к русским народным песням, н к поэтическому творчеству народов Кавказа, и к солдатской песне. В стихотворении "Ай ахти! ох ура!" (1835), явно продолжая традицию, восходящую к агитационным песням Рылеева и Бестужева, П. устами солдат обращается с суровым укором к царю, который "обманул, погубил... мильоны голов".
Среди солдатских жалоб на тяготы службы, мучения и побои нашло себе место и напоминание о 14 декабря 1825 г., когда солдаты царя "охранили, спасли / И по братним телам / Со грехом пополам / На престол возвели". Здесь явно прозвучало сожаление о выборе, сделанном в тот роковой день, и предупреждение, что доведенные до отчаяния солдаты способны уничтожить ими же утвержденную бесчеловечную власть: "Ты болван наших рук: / Мы склеили тебя / И на тысячи штук / Разобьем, -разлюбя!" Шли годы, но они не приносили П. надежды на изменение его участи. Давно нажитая чахотка разыгралась с новой силой. Доведенный до отчаяния, П. стал много пить, а однажды, самовольно покинув полк, потерял амуницию. За это его выпороли розгами с такой жестокостью, что, по свидетельству батальонного адъютанта, "долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья" (Стихотворения.-- С. 126).
В сентябре 1837 г. его отвезли в госпиталь, откуда он уже не вернулся. Там были написаны его последние стихотворения, в том числе "Чахотка" (1837). Когда П. находился уже в предсмертной агонии, пришел приказ о производстве его в прапорщики. Возможно, поэт не успел даже узнать о запоздалой царской милости. 16 января 1838 г. его не стало. Белинский с проникновенной точностью указал, что "отличительную черту характера и особенности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта" (Полн. собр. соч.-- Т. VI.-- С. 159).
Но он не мог ответить на вопрос, кто виноват в трагической судьбе и гибели П., обвиняя в них самого поэта. На этот вопрос исчерпывающе ответил Н. А. Добролюбов. Откликаясь на книгу стихотворений П., выпущенную в 1857 г., он писал: "Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его, сочинений" (Собр. соч.-- Т. П.-- С. 49).
Читать дальше