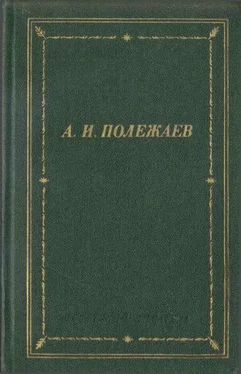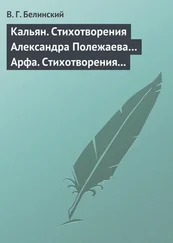Полежаев, несомненно, гиперболизировал свои прегрешения. Пристрастный прокурор, он беспощадно обвиняет себя даже в незначительных или вовсе мнимых преступлениях, тогда как множество его современников (в том числе и писателей), столь же чуждых религиозной морали, нисколько не терзалось угрызениями совести.
Но то, что Полежаев в своей лирической исповеди не побоялся с такой откровенностью заговорить о несовершенствах и уязвимых чертах своей личности, не только делает честь его беспрецедентной в литературе искренности. Гораздо важнее, что следствием этой самокритики было расширение нравственной проблематики и изобразительных возможностей поэзии. Наконец, была явлена без малейших прикрас одна истина: поэт до такой степени живой человек, что и ему не чужды слабости, заблуждения и не слишком достойные поступки.
В состоянии внутреннего угнетения, отвращения ко всему и к самому себе, с такой пронзительной болью изображенном в «Живом мертвеце», сам Полежаев видел возмездие за чувственные злоупотребления. Тут была только часть правды. Периодическая подверженность этим состояниям была особенностью психического склада поэта, с присущими ему резкими перепадами настроений от оживления к подавленности. С юных лет Полежаев познал эти внезапные приступы лютой тоски и душевного оцепенения. Отсюда чрезмерная переоценка гедонистических влечений, культ эротики, ощущаемой как противоядие от подавленности «живого мертвеца» — состояния, по-разному отразившегося в ряде лучших его стихотворений: «Вечерняя заря», «Цепи», «Провидение», «<���Узник>», «Зачем задумчивых очей…», «Ожесточенный», «Ночь на Кубани», «Тоска». Половина и́з них связана с тюремной темой. Нетрудно представить, что получалось, когда внешнее порабощение сопровождала внутренняя скованность. Реальная и духовная тюрьма смыкались, и обе беды исторгали у поэта поистине вопль мирового страдания.
5
Одиночество в романтической поэзии — даже в том случае, когда оно добровольное, — неизбежный удел ее положительных героев. В этом не только драматизм их общественного положения, но и осознанная ими потребность. Уединение — путь к углублению своего внутреннего мира, к духовному обогащению, к обнаружению сокровенных тайн вечной книги бытия, которые рано или поздно оплодотворят и возвысят жизнь «толпы», теперь с презрением взирающей на романтического отшельника. «Чем дале от людей — тем мене он один», — сказал о романтическом поэте Вяземский в стихотворении «Байрон».
Иное дело — Полежаев. Его одиночество сулило ему только оскудение духа, муки «живого мертвеца». Угнетенный внешними обстоятельствами поэт до того уходил в себя, что терял всякую связь с действительностью и оказывался во второй — внутренней тюрьме. Не случайно он так дорожил любой возможностью вырваться из своего внутреннего затворничества, наполнить себя свежими впечатлениями жизни, отдаться ее пьянящим призывам. Однако «бегство в действительность» почти всегда означало погружение только в быт, в сферу витальных потребностей, вещественных забот, поверхностных человеческих контактов.
Итак, идеал личной свободы воплощался в нескованном выражении возвышенных стремлений, в борьбе с насилием всех видов, включая и борьбу с собственной «неестественной свободой» — отчуждением от жизни. Здесь Полежаев проявлял себя как типичный романтик. Жажда свободы отчасти удовлетворялась в мире быта, потому что частный быт не подлежал строгой опеке властей и потому что внедренные в него моральные и культурные императивы не всегда соблюдались. А нужда в личной свободе диктовалась здесь гедонистическими влечениями, напряженность которых вела к столкновению с этическими предписаниями. При этом в изображении быта у Полежаева, как правило, наблюдается крен в сторону натурализма.
Действительность, отражавшаяся в обоих мирах творчества поэта, воспринималась им очень своеобразно. Полежаев весьма обобщенно и расплывчато представлял себе систему подавления и стеснений личности в современном ему обществе — в виде незримой тотальной силы, лишь время от времени обретавшей те или иные зримые очертания. Но подобное представление не мешало ему в другое или в то же самое время воспринимать эту действительность как свободную, то есть лишенную строгого порядка, социальной иерархии и социальной дисциплины. В результате жизнь оказывалась либо неопределенно скованной, либо неопределенно свободной, либо и той и другой одновременно, ибо структурный ее характер осознавался весьма туманно.
Читать дальше