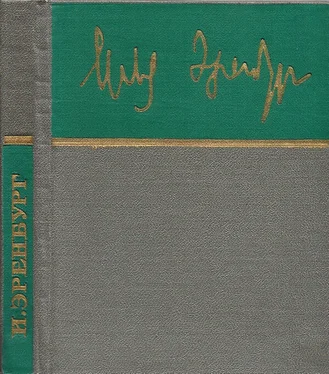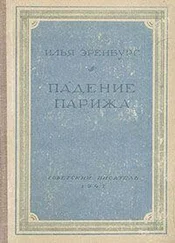1944
«Ракеты салютов. Чем небо черней…»
Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных
дней.
Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.
1944
«Все за беспамятство отдать готов…»
Все за беспамятство отдать готов,
Но не забыть ни звуков, ни цветов,
Ни сверстников, ни смутного ребячества
(Его другие перепишут начисто).
Вкруг сердцевины кольца наросли.
Друзей все меньше: вымерли, прошли.
Сгребают сено девушки веселые,
И запах сена веселит, как молодость,
Все те же лица, клятвы и слова:
Так пахнет только мертвая трава.
1945
«За что он погиб? Он тебе не ответит…»
За что он погиб? Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и, значит, жива,
За то, что есть дерева грустного шелест.
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче,
Но нет вот такой, над которой ты плачешь.
1945
Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,
Простора площадей, разросшейся листвы,
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме не закрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая, из серебра и пепла,
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для прошлого загадочная, немота,
Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,
Что, может быть, одни спасли его от смерти.
И если ты — гранит, учись у глаз горячих,
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.
1945
«Была трава, как раб, распластана…»
Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту,
И были ветки в муке скрещены,
Когда огонь тебя подсек,
И умирало ты торжественно,
Как умирает человек.
1945
«Когда я был молод, была уж война…»
Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Все те же две тени на белой стене.
1945
«Мне было многое знакомо…»
Мне было многое знакомо
И стало сердцу дорогим,
Но не было на свете дома,
Который бы назвал своим.
И только в час глухой и злобный,
Когда горела вся земля,
Я дверь одну ревниво обнял,
Как будто эта дверь — моя.
И дым глаза мне ночью выел,
Но я не опустил руки,
Чтоб дети, не мои — чужие,
Играли утром у реки.
1945
1. «День придет, и славок громкий хор…»
День придет, и славок громкий хор
Хорошо прославит птичий вздор,
И, смеясь, наденет стрекоза
Выходные яркие глаза.
Будут снова небеса для птиц,
А Медынь для звонких медуниц,
Будут только те затемнены,
У кого луна и без луны,
Будут руки, чтобы обнимать,
Будут губы, чтобы целовать,
Даже ветер, почитав стихи,
Заночует у своей ольхи.
2. «Мне снился мир, и я не мог понять…»
Мне снился мир, и я не мог понять —
Он и во сне казался мне ошибкой:
Был серый день, и на ребенка мать
Глядела с неуверенной улыбкой,
А дождь не знал, идти ему иль нет,
Выглядывало солнце на минуту,
И ветки плакали — за много лет,
И было в этом счастье столько смуты,
Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг,
Застывшие не улетали птицы,
Притихло все. А сердце билось так,
Что и во сне могло остановиться.
1945
1. «О них когда-то горевал поэт…»
О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.
Читать дальше