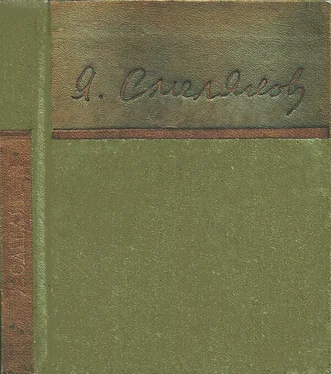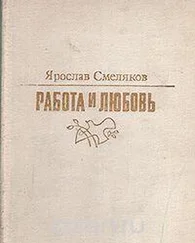Я просто счастлив тем, что помню,
как праздник славы и любви,
и очертанья первой домны,
и плавки первые твои.
Я счастлив помнить в самом деле,
что сам в твоих краях бывал
и у железной колыбели
в далекой юности стоял.
Вновь гордость старая проснулась,
припомнилось издалека,
что в пору ту меня коснулась
твоя чугунная рука.
И было то прикосновенье
под красным лозунгом труда
как словно бы благословенье
самой индустрии тогда.
Я просто счастлив тем, однако,
что помню зимний твой вокзал,
что ночевал в твоих бараках,
в твоих газетах выступал.
И, видно, я хоть что-то стою,
когда в начале всех дорог
хотя бы строчкою одною
тебе по-дружески помог.
1957
Шел поезд чуть ли не неделю.
За этот долгий срок к нему
привыкнуть все уже успели,
как к общежитью своему.
Уже опрятные хозяйки,
освоясь с поездом сполна,
стирали в раковинах майки
и вышивали у окна.
Уже, как важная примета
организации своей,
была прибита стенгазета
в простенке около дверей.
Своя мораль, свои словечки,
свой немудреный обиход.
И, словно где-то на крылечке,
толпился в тамбуре народ.
Сюда ребята выходили
вести солидный разговор
о том, что видели, как жили,
да жечь нещадно «Беломор».
Здесь пели плотные подружки,
держась за поручни с бочков,
самозабвенные частушки
под дробь высоких каблучков.
Конечно, это вам не в зале,
где трубы медные ревут:
они не очень-то плясали,
а лишь приплясывали тут.
Видать, еще не раз с тоскою
парнишкам в праздничные дни
в фабричном клубе под Москвою
со вздохом вспомнятся они.
…Как раз вот тут-то между нами,
весь в угле с головы до ног,
блестя огромными белками,
возник внезапно паренек.
Словечко вставлено не зря же —
я к оговоркам не привык, —
он не вошел, не влез и даже
не появился, а возник.
И потеснился робко в угол.
Как надо думать, оттого,
что в толчее мельчайший уголь
с одежки сыпался его.
Через минуту, к общей чести,
все угадали без труда:
он тоже ехал с нами вместе
на Ангару, в Сибирь, туда.
Но только в виде подготовки
бесед отнюдь не посещал
и никакой такой путевки
ни от кого не получал.
И на разубранном вокзале,
сквозь полусвет и полутьму,
его друзья не целовали
и туша не было ему.
Какой уж разговор об этом!
Зачем лукавить и ханжить?
Он даже дальнего билета
не мог по бедности купить.
И просто ехал верным курсом
на крыше, в угольной пыли,
то ль из орловской,
то ль из курской,
мне не запомнилось, земли.
В таком пути трудов немало.
Не раз на станции большой
его милиция снимала
и отпускала: бог с тобой!
И он, чужих чураясь взглядов,
сторонкой обходя вокзал,
как будто это так и надо,
опять на крышу залезал.
И снова на железной койке
дышал осадками тепла.
Его на север жажда стройки,
как одержимого, влекла.
Одним желанием объятый,
одним движением томим…
Так снилась в юности когда-то
Магнитка сверстникам моим.
В его глазах, таких открытых,
как утром летнее окно,
ни зависти и ни обиды,
а дружелюбие одно.
И — никакого беспокойства,
и от расчета — ничего.
Лишь ожидание геройства
и обещание его.
1957
Средь слабых луж и предвечерних бликов,
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.
В своих платьишках, стираных и старых,
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.
Они об этом думали едва ли,
хозяечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.
Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадочных страниц,
Где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач…
Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.
Читать дальше