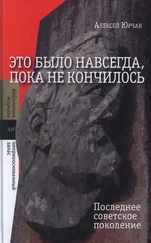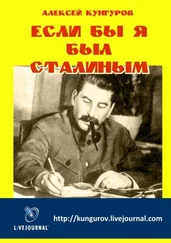Смотри, полсолнца над землёй.
Смотри, я вхож в него без стука.
Я исчезаю, потому как
не твой.
Не твой, не свой, ничей вообще.
Еще мгновение – и кану.
Подобен и праще, и камню
в праще
шагнувший путник – сам себе
причина и объект движенья,
род вызова и поклоненья
судьбе.
Искупляя свои грехи
(как говаривал Навои),
я накрапывал бы стихи,
принимая их за свои.
Либо, как говорил Ли Бо,
о любви сочинял бы слоги,
ибо только одно – любовь
помогает идти в дороге.
Так взбираются к небесам:
врут, камлают, ломают шею,
ибо, как бы сказал я сам —
но немею и не умею.
***
Очнись на востоке, беспечный гайдзин,
отведай сакэ, обездоль апельсин
и вторгнись, как в задницу – клизма
в безмозглую бездну буддизма.
Стань лучше и чище процентов на -дцать,
учись отрицать и на цитре бряцать,
пой мантры на весь околоток,
и пяткой лупи в подбородок.
Частушку на танка сменяй, самурай,
от фудзи фигей и от гейш угорай,
в тени отцветающей сливы
черти иероглиф «пошли вы».
Освой караоке, сёппуку и го,
поскольку без этих вещей нелегко
найти, матерясь, по компасу
матёрую Аматерасу.
Плыви, зарекись от тюрьмы и сумо,
и коль просветленье не грянет само —
прячь в жёлтое море концы, трус,
и съешь обездоленный цитрус,
усни – и проснись в нашей дивной стране,
где я эти строки пишу при луне,
где васи, и маши, и вани —
давно обитают в нирване.
***
Вокруг гремело и орало —
вода пустынный пляж орала.
И бились мне в подметки: краб,
худой пакет, помёт, икра.
Волна обрушивалась с мола,
как тара с полок мегамолла,
взрывался пластик и картон
в количестве ста тысяч тонн.
Гранит захлебывался пеной,
и пёр, глуша гагар сиреной,
Горынычем, чей рык трояк —
трехтрубный крейсер на маяк.
И я был выброшен на берег
в одной из пятисот америк.
Свободы раб, простора вор —
я стал вам брат, солёный сор.
Мне довелось – стеная, горбясь
бежать, обгладывая глобус,
стелиться к точке нулевой,
кипеть – я брат тебе, прибой.
Поджарый рыцарь, образ чей сер —
я брат тебе, горластый крейсер.
Не груз, но глас сквозь муть и жуть
Ты нёс – и это тоже путь.
Не бог весть что – пройти по краю,
но лучшей доблести не знаю.
И я шагал – под грай и вой,
и будто слышал за спиной:
«Не бзди, не парь, не сожалей —
три правила, беглец беспечный.
Сейчас подлечим дух калечный:
иди, смотри, вдыхай, шалей».
***
…но есть ещё восток,
где на исходе понта
алеет кровосток
такого горизонта,
что хочется лететь,
преобразившись в парус,
взять всё, и даже смерть
не оставлять на старость.
Но есть ещё заря,
горящая, как примус,
эпический разряд,
плюс, победивший минус.
Воспринимай навзрыд,
как резаная рана
торжественно горит
у края океана!
Но есть ещё весна,
триумф Пигмалиона:
рыбак кидает снасть
в распахнутое лоно
взволнованной волны.
Ее плева тугая
поспешно сеть пленит
в глубины увлекая.
Но есть ещё любовь:
она, прости за рифму,
подмешивает в кровь,
и уж, тем паче, в лимфу
такого первача,
эфира, жара, вара,
что хочется кричать
наперебой гагарам!
Пока ты здесь, пока
ты пишешь на колене,
пока бежит рука —
мой невеликий гений,
уверуй в эту блажь,
порыв, прорыв, отвагу,
мусоля карандаш,
корябая бумагу.
Так далеко, что, кажется, нигде
моя страна спускается к воде
и исчезает под покровом глянца,
поскольку невозможно продолжаться.
Так высоко, что, кажется, звезде,
и той там не дано обосноваться,
стоит поэт и чешет в бороде,
шепча благоговейно:
– Обоссаться…
Наверно, это буду я, о ком
вам эти строки мало что доложат.
Ну пусть не я, но кто-нибудь похожий.
Ведь где еще так ощутишь всей кожей,
как, опасаясь море потревожить,
туман течет смущенным молоком?
***
Если хочешь, стремись, неофит,
к небесам,
ну, а мне и внизу не Аид,
но Сезам,
раз зима расплескала нефрит
по глазам,
будет море зеленого цвета.
Что по поводу робинзонад,
Робинзон?
Как насчет, Одиссей, сиренад
в унисон?
Над волной, как назло, то пассат,
то муссон,
не сезон, но не будем об этом.
Читать дальше