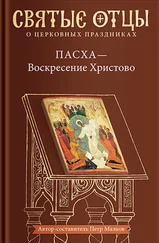Выйду из дому в мороз.
Ветер с налету облапит,
тело продует насквозь,
душу вчистую ограбит.
Ветер, хоть что-то оставь
мне в эту ночь ледяную.
Память оставил – кристалл,
впаянный в клетку грудную.
Знать бы, куда поверну,
где я, откуда и кто я?
Помню лишь зиму одну
жизни, прожитой не мною.
С кем же я лето пропела?
Ветер толкает – пустяк!
Вот он забрался под перья —
в полый мой птичий костяк.
Птицами были мы в детстве
до человечьей судьбы:
холод и голод – и бедствуй,
мерзлую землю долби.
Как же теперь возвратиться,
как мне добраться домой?
Так и останешься птицей,
вмерзнешь в кристалл ледяной.
Над сорной сурепкой окраин,
что щедро нас цветом дарила,
над крышами старых сараев
шпана городская царила.
Над пустошью пристанционной —
не суйся! – схлопочешь по рылу,
над черным чумным терриконом
шпана городская парила.
От школы давно уж отстали,
глядели на всех исподлобья,
и что-то в них было от стаи
шакальей – голодной и злобной.
Вслед женщинам нагло свистали,
плевали на наши приличья.
И что-то в них было от стаи —
летящей, курлычущей, птичьей.
К окрестным садам беспощадны,
худы – до скелетного хруста.
Кричали им: «Будьте неладны!»,
грозились: «А чтоб тебе пусто!»
По-галочьи были всеядны,
презрительны были, безродны.
О как они были неладны!
И как они были свободны!
Окраине поэзии – хвала.
Она к себе с базара и вокзала
безвестных стихотворцев приняла
и с городской окраиной совпала.
Вульгарная помада на губах.
Слегка согнувшись под привычным грузом
авоськи, как и все – в очередях
стоит ее обшарпанная муза.
И что-то шепчет, словно из молитв.
Когда ее бранят или толкают,
в ее душе вибрирует верлибр.
Бедняжка ничего не замечает.
Она сюда за поводом для слез
перебралась – и навсегда застряла
среди убогих флигелей вразброс
бродячих псов и ржавого металла.
Знать, на роду написано – жалеть,
смотреть, как под дождями мокнет глина,
и слушать, как в осеннюю мокреть
окраины играет окарина.
Этот воздух, как соты, – сквозной,
точки света и теней зигзаги,
точно кто безнадежно больной
тешит душеньку – вывесил флаги.
Лист прозрачной ладошкою машет
и, кружась, привстает на носки.
Это музыка плачет и пляшет,
отводя от последней тоски.
Замиранье – и трепет сердечный,
задыханье и трепет – такой,
точно кто, безнадежно беспечный,
отмахнулся от смерти рукой.
Беспечальна – на ней благодать,
бескорыстна, безмерна, бесплотна,
это – музыка. С ней – пропадать.
Ни на что она больше не годна.
Только сделаем шаг за ворота:
– Милый мой, мы оставили что-то,
не вернуться ль за тем, что осталось?
– Верно, глупость какая-то, малость,
из журнала на стенке картинка…
– Или нашей судьбы половинка,
четвертушка, осьмушка – не знаю,
может быть, даже тридцать вторая.
Но с тобой мы на каждом привале
что-нибудь невзначай забывали.
Вот забыли, как молоды были —
и любовь по углам растеряли.
«Два голубя – сизый и белый …»
Два голубя – сизый и белый —
сидят на моем рукаве.
Как странно: рассыпался камень,
и дерево черви сожрали,
и ржа источила железо
и лживое сердце твое.
А ветер-бродяга – остался,
а бабочка – не улетела,
а голуби – сизый и белый —
сидят на моем рукаве.
«Мой август кудрявый, пора нам …»
Мой август кудрявый, пора нам
с асфальта на время сойти.
Позволим нахальным бурьяном
ученым мозгам зарасти.
Приляг на поляне нагретой
и руки привольно раскинь —
в ленивых извилинах лета
цветет луговая латынь.
И стебель мне щеку щекочет,
и жизнь копошится в траве,
и только кузнечик стрекочет
в зеленой моей голове.
Снова, мама, ты в печали,
снова, мама, я в бреду.
Что ли, мама, выпьем чаю
или водки на меду.
Выпьем, бедная подружка,
выпьем, почему бы нет?
Вот подарочная кружка —
из Америки привет.
Читать дальше