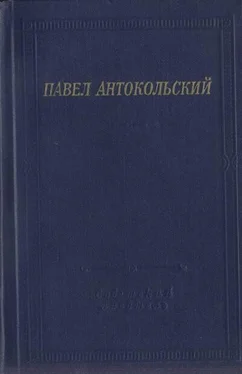Не двинутся льдов кафедральные своды.
Священные тучи пасутся отарами.
В ночи новогодней и в сводках погоды
Всё, кажется, дышит привольями старыми.
Как будто старик этот — Фауст в косматом
Своем одиночестве бредит Еленой.
Шалишь! Он — весьма невзыскательный атом,
Обструганный временем, будто полено.
Радист принимает все радиоволны —
С кошачьим мяуканьем, с вальсами Штрауса,—
Служака что надо, чиновник безмолвный,
Давно безучастный к звучащему хаосу.
Двенадцать часов! Новый год уже близко.
Нацелены жерла бессонных зениток.
И в синий хрусталь крутизны сверхальпийской
Земля наливает багровый напиток.
Тогда из приемника вместо мяуканья
Взыванья картавого голоса лезут.
В нем смешаны с пьяной фельдфебельской
руганью
Истерика женщины, скрежет железа.
И сразу тот лающий голос опознан.
То голос измены, угрозы и ужаса.
То грохот воздушной бомбежки.
Но поздно.
Последние кадры проходят и рушатся.
Светает.
Над брешью траншейного хода
Дымится клочок розоватого неба.
Мадрид не встречал еще Нового года,
Два года на дружеском пиршестве не был.
Над крышами Карабанчеля, над Парком
Раскат грозовой или рев динозавра,
«Капрони» ли взвизгнул, иль «юнкерс»
прокаркал,—
Зенитчик не спит.
Начинается завтра.
Товарищи! Нам ли на празднике сетовать?
Нам молодость верит. Нас время торопит.
Так выпьем за зоркость зенитчика этого,
За наших друзей в новогодней Европе!
31 декабря 1938
1
Ты шла по излучинам рек и по шляхам,
Кремли городила, и срубы рубила,
Грозила железом ливонцам и ляхам,
И землю орала, и в колокол била.
Набив закрома и деньги не растратив,
Татарский ясак отплативши с лихвою,
В заволжскую глушь посылала ты рати,
Шла в степи, врубалась в чащобную хвою.
От медного звона, от гама людского
Тучнел городок, хорошея незримо.
Посад за посадом оделась Москова
Финифтью и золотом Третьего Рима.
И Тверь, и Владимир, и Суздаль, и Углич
Следили, покорствуя и восставая,
Какие еще городища обуглишь
Ты, ярость московская, крепь постовая!
Во славу той ярости — жестокосерды —
И Волга и Волхов синели окружьем,
И в кузнях людишки боярские, смерды,
Вздували мехи над московским оружьем.
От грубой пеньки до заморского лала —
Всё было тебе на потребу, всё мало!
Так жарко пылала, так жадно желала,
Так часто добытое жгла и ломала.
И в тяжкие зимы, и в дни лихолетья
Ворон не хватало тебе на жаркое.
Но, шитая лыком, но, битая плетью,
Ты лишь одного не хотела — покоя.
Потом ты раскинулась бойким базаром,
Скликала гостей из Орла и Рязани,
Потом, опозорена охрой казарм,
Для Чацкого стала мильоном терзаний.
Румяная сдоба, блинная опара
Скликала обжор от Харбина до Лодзи…
Курьерский летел в оперении пара
Сквозь ельник и дождь, рычагами елозя.
На мягком диванчике первого класса
Какой-нибудь немчик готовился к встрече
С тобою, Москва. И готов был поклясться,
Что переплутует всё Замоскворечье.
Шли десятилетья ни шатко ни валко.
А где-то во тьме, в ликованье и муке
Мужала твоя золотая смекалка,
Твои золотые работали руки.
Уже вырастали, плечисты и зорки,
С хорошею памятью, с яростным сердцем,
Наборщики Сытина, парни с Трехгорки —
На горе купцам и на страх самодержцам.
Что пело в тебе, и неслось, и боролось,
И гибло на снежном безлюдном просторе?
Как вырвался звонкий мальчишеский голос
Из гула студенческих аудиторий?
Свинцовые вьюги тогда пролетали,
Свистя в баррикадах расстрелянной Пресни,
И слово с чужих языков — «пролетарий» —
Тебе обернулось не словом, а песней.
Когда это было, любимая, вспомни!
На миг затуманятся ясные очи.
Ты станешь еще веселей и огромней,
Но ты не забудешь. Навеки. Той ночи!
2
Не странноприимная слава монашья,
Не всенощных свечек престольная слава,
Лихая безбожница, молодость наша,—
Так будь белокаменна и златоглава!
Ты больше не город, не сто километров,
Одетых в брусчатку иль мрамор нетленный,
Ты — встреча всех сил, притяжений и ветров
Скрещенье всех рейсов и сердце вселенной.
Читать дальше