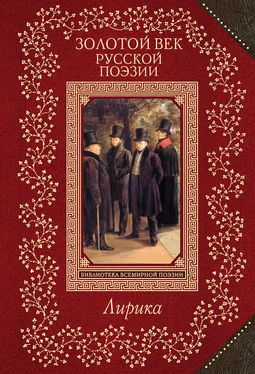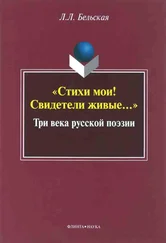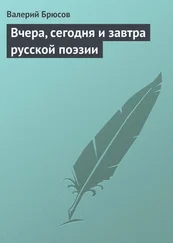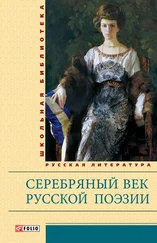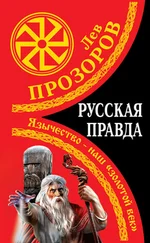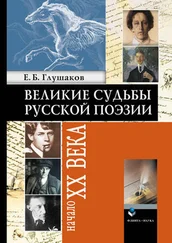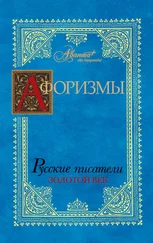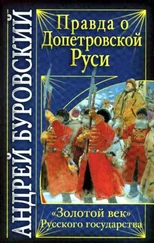Вообще, «гражданская» поэзия в 1820-е годы была особенно привлекательна не только потому, что таковы были общественные настроения, а потому, что в ней видели альтернативу интимной элегической лирике, возможности которой казались исчерпанными Жуковским, Пушкиным, Баратынским и др., а содержание – неглубоким. Другой альтернативой стала «философская» лирика, «поэзия мысли», о необходимости которой заговорили «любомудры», выпускники Московского университета, увлеченные немецкой философией, – Д. В. Веневитинов, С. П. Шевырев и др. Но, в отличие, например, от Баратынского, серьезным, «положительным» содержанием этой «поэзии мысли» должна была стать собственно философская проблематика. Так, Веневитинов, говоря в стихах о поэте, «любимце муз и вдохновенья», и «святой поэзии», подразумевал идеи немецкого философа Ф. Шеллинга о «тайном покрове» природы, поднимающемся лишь для бескорыстно посвятившего себя высшей силе поэта, и о поэзии как высшей форме философствования («Жертвоприношение», 1826, и др.). Шевырев пытался выработать новый, усложненный и «темный» поэтический язык, соответствующий глубине и сложности философских проблем и противопоставленный бездумной «чистоте» и «прозрачности» элегического стиля («Критику», 1830). Близкий к кружку «любомудров» А. С. Хомяков, один из «отцов» славянофильства, так же как Веневитинов, в философском ключе, писал о поэте, дающем «творенью мертвому язык» («Поэт», 1827). В поздних его стихотворениях преобладают религиозно-дидактические мотивы, при этом заметно выделяются стихи, посвященные осмыслению судеб и назначения России (два стихотворения «России» 1839 и 1854 годов; «Раскаявшейся России», 1854; и др.). В лирике Хомякова, поэта, публициста, историка и богослова, религиозная, философская и политическая проблематика не просто тесно связаны, а даны в органическом единстве, вытекающем из на редкость цельного и непоколебимо твердого мировоззрения автора, отличающего его среди поэтов пушкинской поры и вообще большинства литераторов XIX века. Впрочем, «гражданские» и религиозно-философские мотивы нередко переплетались и у менее крупных поэтов, как, например, у контактировавших и с декабристами, и с «любомудрами» А. А. Шишкова («Три слова, или Путь жизни», 1828) и А. Г. Ротчева («Богач, гордясь своим именьем…», 1827).
Веневитинов, Шевырев и Хомяков – последние из поэтов пушкинской поры, входившие в «пушкинский круг», лично с ним связанные, хотя и они принадлежат к новому поколению, сменившему Пушкина и его сверстников на литературной сцене. В конце 1820-х – начале 1830-х годов поэты пушкинского круга выпускают поэтические сборники, для многих ставшие первыми и при жизни последними. В 1829 и 1832 гг. выходят три части стихотворений Пушкина. В 1827 и 1835 гг. издает свои стихотворения Баратынский, в 1828 и 1832 гг. – Козлов, в 1829 г. – Дельвиг, в 1832 – Давыдов, Катенин и Н. И. Гнедич (тремя годами раньше, в 1829 г., он издал главный труд всей своей жизни – перевод «Илиады» Гомера), в 1833 г. – Языков. Жуковский в 1831 г. выпускает все свои старые и новые баллады, чтобы вновь к этому жанру уже не возвращаться (теперь он обратится к опытам в эпическом роде, а чистую лирику он практически оставил еще в 1824 г.). Это выглядело как последний «парад» уходящего поколения поэтов.
Между тем в литературе происходили существенные перемены. Проза решительно начала теснить поэзию (сам Пушкин в 1830-е годы прозы, художественной, исторической и литературно-критической, пишет неизмеримо больше, чем стихов). Умножались журналы, расширялась и, соответственно, демократизировалась читательская аудитория, менялись вкусы. В моду вошли «неистовые» страсти, отвлеченная философия, масштабные политические идеи. Утонченная поэтическая культура пушкинской поры, требовавшая для своего восприятия образованности и досуга, новой демократической публике была непонятна и не очень нужна. В поэзии читатели искали того, что сразу поразит воображение, – новизны и эффектности выражений, необыкновенных, неведомых простому смертному мыслей и страстей. А поэты, в свою очередь, пытались уйти от растиражированных элегических мечтаний и «гладких» стихов, которые стало слишком легко сочинять, и тоже стремились к чему-то необыкновенному, превышающему человеческую меру.
А. И. Подолинский, оставаясь в целом последователем Жуковского и Козлова, в своих романтических поэмах, перенасыщенных восточной экзотикой («Див и Пери», 1827; «Смерть Пери», 1834–1835), перенес действие в космические сферы (предвосхитив отчасти «Демона» М. Ю. Лермонтова). А. И. Полежаев, человек несчастной судьбы, отданный в солдаты за непристойную поэму и умерший в госпитале после службы на Кавказе, в стихах с равной неистовостью предавался демоническому бунтарству и безжалостному самоосуждению, безбожному отчаянию и надежде, экзальтированной любовной страсти и просто грязному разврату (в результате ему почти удалось создать свой собственный стиль, отличающийся полной непредсказуемостью). В. Г. Тепляков, автор «Фракийских элегий», которые успел высоко оценить Пушкин, находя в них «гармонию, лирические движения, истину чувств», внес в элегию батюшковского типа мотивы поэзии Дж. Байрона и философии Шеллинга.
Читать дальше