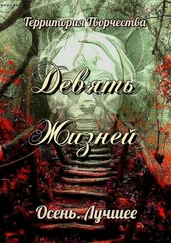Всё. Платформа кончилась, шкурка сброшена и душа уже пошла совсем другая – девушка охарактеризовала её одним словом: непредсказуемая. Она такая себе почему-то страшно понравилась и, удовлетворённо улыбнувшись, вся ушла в чтение Бунина.
Для двадцатичетырёхлетней девушки, едущей в одиночку в поэтичнейший город мира в самое романтичное время года, Иван Алексеевич составил приятную компанию. После его рассказов хотелось плакать из-за того, что Господь сотворил мужчин такими ранимыми, а женщин – такими соблазнительными и такими безжалостными. Конечно, и у него был целый ворох штампованных рассказов, построенных по принципу «увидел-влюбился-переспал-расстался», но всё это было написано таким потрясающим языком, а второй и третий пункты так вдохновляли, что рассказы не казались однообразными. И всё-таки Лида больше любила те, которые выбивались из этой схемы – «Холодную осень», «Поруганного Спаса», «Чистый Понедельник», не говоря уже, конечно, о «Митиной любви», доказавшей ей ещё пять или шесть лет тому назад, что если произведение заканчивается грустно – не надумано, а неизбежно, само собой – оно всегда лучше, романтичнее и крепче берёт за душу, чем те, что заканчиваются хэппи-эндами. В трагическом конце было что-то благородное. Он был лучшим и единственным доказательством того, что любовь была всерьёз. Потому что если всё завершается розочками и счастьем, становится немножко тошно – как если переесть пастилы. Смысл героям страдать, если они когда-нибудь воссоединятся – и здесь писатель и остановится, как будто нет ни каждодневного быта, ни мелких семейных неурядиц? А вот если в финале разыгрывается трагедия, то читатель, усилием воли втянув слёзы обратно, вздохнёт: «А как всё могло бы быть, если бы…» и сейчас же остановится, почувствовав, что нет, по-другому быть не могло и лучше смерть и душераздирающие страдания неразделённой любви, чем набившая оскомину ванилька. Если человек умирает от горя – это по-настоящему, понятно, объяснимо и хочется плакать вместе с ним; если от счастья – скучно, как затянувшийся сериал. Вот за это, главным образом, Лида и любила Бунина.
Прочитала «В Париже». Понравилось. Сначала обещало быть пустячком из разряда того самого штампованного Бунина; кончилось трагично, хоть и как-то совсем ни с того ни с сего, но в целом тоже очень по-бунински. На этой ноте можно было и вздремнуть, и Лида сладко заснула, прижавшись щекой к жёсткому боку чемодана. Томик Ивана Алексеевича уютно прикорнул у неё на коленях. Из приоткрытого окна не дуло, но умиротворяюще тянуло прелым листом.
Когда Лида сошла с поезда, в Питере уже темнело. Невский проспект, разбегаясь в обе стороны от площади, зажигал яркие вывески. Выбравшись из здания вокзала, Лида с полминуты стояла, прикрыв глаза и жадно вдыхая этот совсем другой воздух, воздух свободы. В осознанном состоянии она была в этом городе всего второй раз, но всё – и ломаный изгиб Невского проспекта в этом районе, и здание вокзала (вроде, брат-близнец того, которое в Москве, но стоит к площади под углом и от этого кажется гораздо торжественнее), и вечно висящая в воздухе морось (вот откуда в позапрошлом веке в этом городе бралось столько чахоточников!) – всё казалось таким родным, таким знакомым и до боли любимым, что щемило сердце, как от встречи с очень дорогим, но давно не виденным другом.
До знакомой гостиницы было два шага в почти что прямом смысле этого слова. Конечно, Лида с удовольствием ещё прогулялась бы по ночному Питеру, но в гостинице надо было появиться, а потом, от тепла, уюта и духоты, выходить больше не захотелось. Лида приняла с дороги душ, расчесала тяжёлой деревянной расчёской свои густые тёмно-каштановые волосы, натянула любимую ночную рубашку с надписью «Sleepless in Seattle» в честь известного фильма и, уютно устроившись на мягкой кровати одноместного номера, уснула.
II
Следующим утром было воскресенье, и Лида, проснувшись без будильника в полвосьмого, всерьёз задумалась над тем, чтобы пойти в какую-нибудь маленькую церковку: ей давно хотелось посмотреть, что представляет собой православное богослужение. Но пока оделась и вышла, раздумала: зачем тратить световой день на праздное любопытство, когда можно всласть нагуляться по городу, да ещё с фотоаппаратом?
Ноги сами привели девушку к прекраснейшему Спасу-на-Крови. Его она любила страстно, почти до экстаза, поэтому нафотографировала вдосталь со всех сторон. Почему на календарях и открытках так любят ракурс с канала Грибоедова? Со стороны Михайловского сада, когда выходишь – и собор поднимается перед тобой во всём великолепии – выглядит гораздо поэтичнее. А на маленькой площади возле храма копошится народ, играет музыка – чистейшей воды местный Арбат! Лиде вдруг захотелось танцевать и целоваться. Первого – слегка, от радости и от ощущения простора и музыки, второго – взахлёб, до изнеможения, а может быть даже со всеми вытекающими, но ни к чему не обязывающими последствиями. Девушка огляделась в поисках подходящей жертвы, но никого стóящего не нашла и пошла дальше куда глаза глядят.
Читать дальше