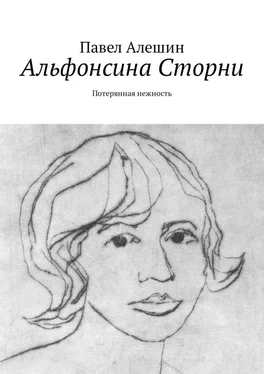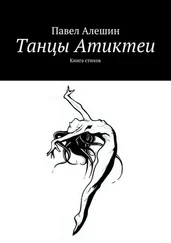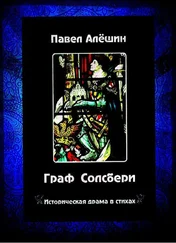Неясный слышу шум… и вся земля
так сладостно поет… И вдалеке
леса, обремененные венцами,
ручьи, из берегов своих что вышли,
чьи воды в землю проникают так же,
как и мои глаза в глаза другие,
завороженно грежу о которых…
Но солнце
уж опускается с высоких гор,
и птицы все в укрылись гнездах, вечер
вот-вот умрет, а он – так далеко…
как солнце, что уходит в никогда
и оставляет здесь одну меня —
с дрожащими устами, с истонченной
душой, надеющейся на любовь,
благодаря которой становлюсь я
и нежной, и прекрасной…
Если с пальцев моих беспричинная нежность
вдруг слетит, если с пальцев моих… то ее,
эту нежность потерянную, с дуновеньем
эту нежность бесцельную, кто подберет?
Я могла бы любить в эту ночь бесконечно,
я влюбилась бы в первого встречного, но —
никого. Одиноки цветущие тропы.
Ветер нежность все дальше и дальше несет…
Если вдруг поцелуют в глаза тебя, путник,
в эту ночь, а в дыханье ветвей – забытьё,
если пальцы твои вдруг рука мимолетно
вдруг возьмет и отпустит, сожмет, пропадет,
Если руку ту, губы те ты не увидишь,
поцелуй если ветра виденье – и всё,
ты, о, путник, глаза чьи бездонны, как небо,
моей нежности в нем распознаешь полет?
Зарезанные слова,
упавшие с моих губ
нерожденными;
невинные и задушенные,
не увидевшие солнца;
отягощенные желаньями
и переполненные ими…
Изказившие мои уста,
что хотели явить вас,
ставшие омутом пустоты
при паденьи…
Отделенные от моего небесного меда,
сжавшиеся в себе,
в цветущих венках.
Я обескровлена вами
– нерожденными —
сетями самого дальнего и самого близкого,
полумесяцами,
истощенными рыбами,
бескрылыми птицами,
свернувшимися змеями…
Не ведай прощенья,
сердце.
Опьяненная бабочка,
вечер
кружил над нашими головами,
сужая свои белооблачные
круги,
стремясь к острой вершине
твоих уст,
возвышавшейся напротив моря.
Земля и небо
умирали
в зеленой музыке вод,
не знавших исхода.
Отступала,
рассыпаясь,
стена горизонта,
и собирались танцевать
черные камни.
И меня все манили
круги наверху,
направляя меня к тебе,
словно к далекому источнику,
с которого они сольются.
Но только вечер
испил, медленно,
цикуту
твоих уст.
Мой стон зажигает мякоть
божественного сердца,
и его содрогание
превращает в бархат
мох земли.
Янтарь горько-сладкий
выжатый из
цветов лазурных
увлажняет
мои жаждущие губы.
Реки крови
текут с моих рук,
чтобы запятнать
лица людей.
К кресту времени
пригвождена я.
Шум отдаленный
мира, порыв горячий,
испаряет пот
на лбу моем.
Мои глаза, маяки горечи,
высекают таинственные знаки
в пустынных морях.
И, вечное,
пламя моего сердца
поднимается спиралью
освещать горизонт.
Невидимая рука
ласкает безмолвно
грустную мякоть
катящихся миров.
Кто-то, кого я не понимаю,
смягчает мне сердце
нежностью.
В августовском снегу
раскрывается солнце —
ранний бунтарь —
цветок персикового дерева.
Распростертая на охровом лезвии
горного хребта,
замерзшая
женщина из гранита
кричит ветру
о боли своего пустынного лона:
Лунные
бабочки
ночью
сосут
ее груди
замерзшие.
И на моих веках
растет, более древняя,
чем мое тело,
слеза.
В поиске внутренней силы
лобная
область смещается
вправо
и влево.
И в завихрении
лицевом
устанавливается
занавес с того света,
выгибаясь и расширяясь.
Животное
воет из носа,
намереваясь обрушиться,
разъяренное.
Грек прорывается
из очей его отдаленных.
Грек,
что заглушает, обвивая
андалузские холмы
его скул
и трепетную долину
его рта.
Гортань его скачет
из пределов своих,
требуя
полумесяц-наваху
вод остроконечных.
Читать дальше