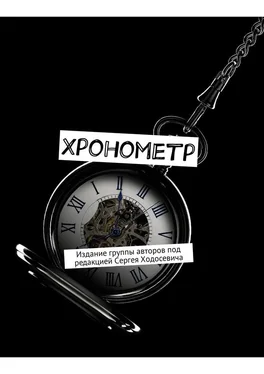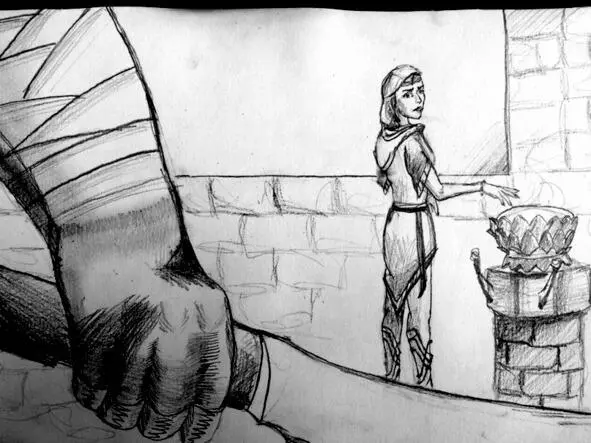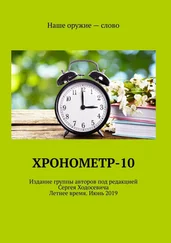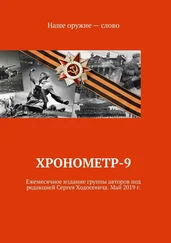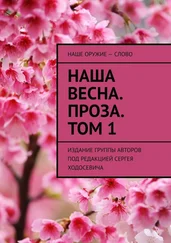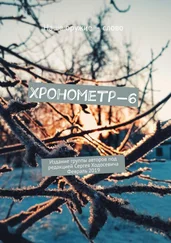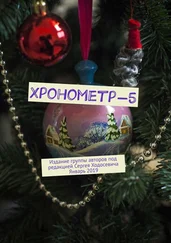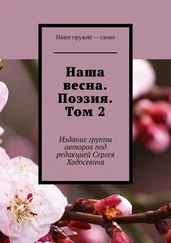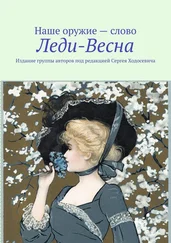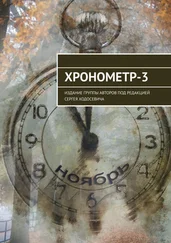В коллективной челобитной с жалобой на боярина и воеводу С. А. Урусова 1656 г. дворяне и дети боярские обращали внимание на то, что боярин их бесчестит, называя «не слугами и не бойцами». Как бесчестье воспринимались, судя по содержанию челобитной, и наказание кнутом, плетьми, ослопьем и батогами, во всяком случае, без вины. Самого же боярина дворяне в свою очередь бесчестили тем, что утверждали, что Урусов не носил оружия, а ездил с одной тростью и боялся пушечной стрельбы.
Отсутствие на службе или побег с нее могли стать основанием для оскорбления и бесчестия того или иного лица. В этом случае название «беглец» воспринималось именно как личное бесчестие. В январе 1666 г. из Пскова по челобитью был отпущен ротмистр рейтарского строя Панкратий Тимофеев сын Перский для женитьбы на сестре новоторжца Ивана Федорова сына Тыртова. Отпуск ему был дан на месяц, по 22 февраля 1666 г. Однако Перский задержался в отпуске до апреля, в связи с чем на него подал донос новоторжец Федор Романов сын Языков, назвав его «беглецом». Между ними произошла драка, однако затем, после того, как Языков узнал причину отсутствия Перского на службе, они помирились и принесли мировую челобитную. Таким образом, побег со службы или отсутствие на службе воспринимались как личное бесчестие и могли служить предметом серьезного разбирательства не только со стороны государственных органов, но и частных лиц.
Как бесчестие воспринималось иногда сотенными головами и назначение на службу с тем или иным воеводой, которого они считали «хуже» себя. В мае 1635 г.. например, второй воевода полков, собиравшихся в Переяславле Рязанском, Дмитрий Остафьев, жаловался на сотенных голов рязанцев П. Н. Лихарева, Д. А. Таптыкова и А. Ф. Сатина, которые, получив сотенные списки из рук воеводы Д. П. Львова, отказались возглавить сотни, так как посчитали для себя зазорным служить под руководством Остафьева. Они «лаяли» его в съезжей избе, называя «хуже себя», хотя сами должны были служить не в его полку, а в полку Львова. Кроме того, упомянутые дворяне рязанцы собирались подать челобитную с жалобой на Остафьева и для этого обратились, как он писал, к родовитым людям, Чевкиным, Волконским, Кобяковым и другим, надеясь заручиться их поддержкой. В полку товарища первого воеводы кн. Д. П. Львова отказались служить в 1645 г. воротынцы Гаврила, Матвей и Павел Тургеневы и просили даже отпустить одного из них к Москве «побить челом», потому что «преже… мы, холопи твои, с большими воеводы бывали, с товарищами не бывали». Частыми были и отказы служить в том или ином полку или даже половине «города» вследствие «недружбы». Так, в 1645 г. выборный арзамасец Никита Емельянов сын Григоров, служивший ранее 19 лет в «житье» и написанный по Арзамасу по выбору всего год назад, просил написать его на службу в первую половину, поскольку в другой половине «арзамасцы дворяне есть мне недруги, с Семеном Исуповым сошлась у меня недружба, а за Григорьем, государь, Нетесевым, живут беглые мои крестьянишка, и о тех, государь, беглых моих крестьянишках есть мое на нево челобитье. И за то, государь, они меня, холопа твоего, бессемейнова хотят напрасно затеснить». 4 февраля 1645 г. эта просьба была удовлетворена. Поддержка семьи и родственников, как видим, и на службе значила очень много, служить предпочитали в семейном окружении.
Бесчестием считались и ругательства в адрес конкретного лица. В 1635 г. муромец Иван Григорьев сын Лупандин подал челобитную на муромца же Никифора Петрова сына Дурасова, которого называл своим «кашехлепцем», то есть приятелем, часто бывавшим у него в доме. На пути со службу из Одоева домой Лупандин доверил Дурасову сумки с товарами, купленными в Москве: ткань (киндяк), ценой в полтора рубля, шапка мужская такой же цены и шапка женская атласная, ценой три рубля. Дурасов «прислал… из двора ко мне сумки порожние, а тое рухледи не отдал… учал меня лаять всякою неподобною лаею…». Лупандин просил дать суд на Дурасова в бесчестье. По поводу нанесенного бесчестия предпочитали обращаться в суд, а не пытаться искать удовлетворения с помощью оружия, что было связано прежде всего с запретом церковью поединков и боязнью умереть без покаяния.»
Цитируется по: Лаптева Т. А. Провинциальное дворянство России в XVII веке.
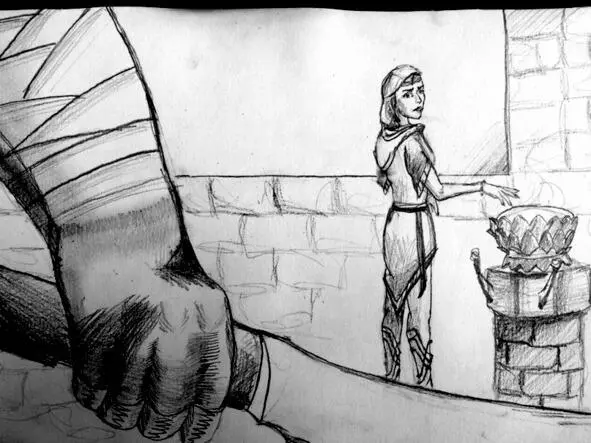
Фэнтези, мистика и фантастика.
Наверное данные направления самые популярные среди читателей и тут в группе, в коей среди авторов этих жанров идет ожесточенная борьба за приз конкурса «Кубок Ефремова» мы представим вам три различные работы; Это славянское фэнтези «Стеклянные глаза» художника и мистика нашей группы Никиты Маргарян, далее предложим переместиться из прошлого в далекое будущее с фантастическим рассказом Сергея Ходосевича и прочитать отрывок из повести в стиле фэнтези Елены Мельниченко, полностью которую можно будет увидеть в наших осенних коллективных сборниках уже в конце октября) начале ноября.
Читать дальше