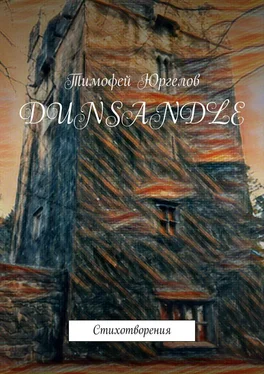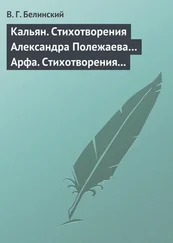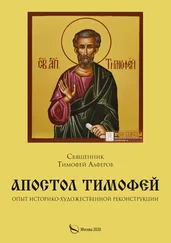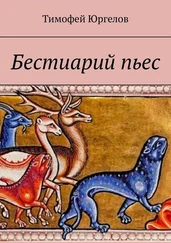То был веселый бой: мы их зажали
В ущелье узком с двух сторон,
Изжалив блики лат свинцом.
Из наших десять ранено едва ли.
Их кондотьер, безмозглая скотина,
Завел в ловушку сотен семь —
Пришел конец, конечно, всем.
Я сам свалил его из кулеврины.
Я голубей воды не видел и небес,
Чем горный тот поток и дали,
Пока их с алым не смешали, —
Когда стрелять вдруг начал лес.
Закончил бойню протазан.
Днем мародеры там сновали,
Всю ночь стервятники в теснине пировали
И ссорились из-за дебелых партизан.
С зарею расцвели бутоны тел на дне —
И розами там пахло, как нигде…
Напомнили еще мне роз охапки
Твоих кудрей и кожи аромат,
Прекраснейший Цветок, до коего так падки
И коннетабль, и молодой солдат.
Hous imitons, horreur! La toupe et le boule
Dans leur valse et leurs bonds…
Baudelaire 1 1 фр. О ужас! Мы шарам катящимся подобны, Крутящимся волчкам… Бодлер.
Мне больно видеть стариков глаза.
Бедняги за детей цепляются занятно,
Когда тех прогоняют: спать пора! —
Как будто это жизнь уходит безвозвратно.
Руками мумий пестуют уродцев,
Упругих, толстых, как шары живые;
Что сталкивают в лузы их глухие —
Где бесконечность вместо солнца.
В преддверье ада в их глазах с индиго
Безумие мешается все чаще —
Но нянчат палачей, бессмысленно мычащих,
Прощаясь с явью странно-дикой…
Как это все невыносимо!
Игрок – бездарная скотина…
«Вошла и села здесь, передо мной…»
Вошла и села здесь, передо мной,
закинув ногу на ногу; взглянула
глазами, будто виноград зеленый,
напоминающий, по общему признанью,
глаз змеи. Приблизилась,
нацелясь сигаретой, —
и потонула в облаке волос,
духов и дыма комната моя.
Однако понял всё:
я предназначен в жертву
каким-то там богам ее подземным,
что разрывают трепетные души
пред тем, как их глотать.
А может, даже всем изгибам тела,
которое под платьем кажется прекрасным.
Не раз уж попадался на мякине ―
и был потом так близок к суициду
при виде странных форм и бедер,
словно изъеденных развратом,
со вмятинами сотен жадных пальцев.
Желтушные, сухие, как наждак,
их прелести меня ввергали в ужас:
я спал с ужаснейшими женщинами, был я
подобен скотоложцу ― леденел
в сладчайшие минуты и затем
хватался за голову и кричал без звука
средь смятых простыней, когда подружка
скачками убегала в нужник.
И сам я иногда сбегал средь ночи,
а дома прятал от себя ружье… Зачем?
И что меня толкало в их объятья?
Все то же жалкое упорство
в стремленье вечном к новизне?
Как любим обмирать мы, чтобы жить!
И повторять потом за Павлом,
который высадился в Перге —
или в Селевкии Приморской?..
При виде рощ из мирта и ежовых
деревьев, оплетенных хмелем,
прибрежных скал, а так же водопадов, ―
как если б там в миниатюре
соединились все красоты мира,
чтобы дать начало
п о д в и ж н и ч е с т в у ―
он же говорил Варнаве: «Брат Варнава,
как хорошо нам не касаться женщин».
«Где мрак роится в тьме ветвей…»
Где мрак роится в тьме ветвей
И хор цикад неутолимый,
Вонзились в спину серпантина
Волшебные лучи теней.
Будто трапеций в цирке сеть:
Шатер сгорел, каркас остался.
Жемчужный свет как бы распался
– протек садов сквозную клеть.
Но за грядою – точно днем.
И звучно небо отдается
В шагах и по́д ноги мне льется
Люминофоровым ковром.
Бреду – тут замерли навстречу
Платан, рудбекии, чугун
Лозы и окон. Дальше – гул,
Как будто бы нездешний, вечный…
Всё так: мгновенье лишь прекрасно
– дни, годы, месяцы – всё бред.
Оно одно оставит след
– томящий, бледный и напрасный.
А позади, как бездны, море
Шумит, чернеется, растет —
За мной крадется, как зелот:
Настичь и – утонуть во взоре…
«Летящий по́ небу нас оставляет жить…»
Летящий по́ небу нас оставляет жить:
Он израсходовал все розы по дороге —
Бомбил селенье и отроги,
Там до сих пор их лепестки горят.
Прошел над нами точно камнепад,
Набросив тень на горы ловчей снастью.
Как рыбы в неводе, мы ничего прекрасней
Не видели, чем в небесах лицо.
Летящий по небу не знает ничего:
Он думает, что мы еще в дороге.
Но мы пришли, мы на пороге —
В пронзительное забытье…
Читать дальше